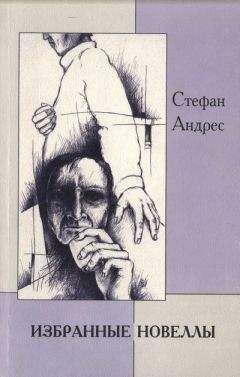Когда Пако очень серьезно устремил свой взгляд в глаза лейтенанта Педро, тот посмотрел куда-то вбок, приблизился к конторке, возложил на нее руку и слегка качнул, а потом, словно ему вдруг что-то пришло в голову, достал носовой платок и промокнул пот на лбу.
— Ужасная жара в этих кельях, — плечи его вздрогнули, — они, понимаете ли, засели как кроты в своих норах. Выходить не пожелали, и тогда нам пришлось стрелять прямо в кельи, по-другому просто не получалось. — Он прокашлялся.
— Но как же та? Раз они не стреляли, их вполне можно было оставить в покое?
— И целый месяц держать здесь отдельный взвод, чтобы помешать им и дальше настраивать людей против нас? Разве на вашей стороне так поступают? У нас ни солдат для этого не хватает, ни времени, ни охоты, ни настроения. А к слову сказать, мы нашли зарытые у них в подвале ручные гранаты. Вы согласны, что со стороны монахов это было не так уж и дружелюбно? Ну и раз они в ответ на наше требование не пожелали выйти, нам самим пришлось войти к ним.
Тут рассказчик попытался изобразить улыбку на своем массивном лице, но ничего из этих попыток не вышло.
— Нелепый приказ — и надо же, чтоб его получил именно я. А вот в этой самой келье — как же его звали, того доброго падре? — Лейтенант подошел к двери, выглянул наружу и прочел табличку с внешней стороны. — Ах да, верно, падре Хулио. Помнится, отец у него известный человек, падре Хулио вполне мог рассчитывать на епископский сан, как мне рассказывали, весь город полнился его именем — с тех пор и двух недель не прошло. Другие монахи, те по крайней мере сами нам открывали; некоторые, полные предчувствий, так и держали их открытыми, один даже поспешил мне навстречу, ну да, этот! Остальные, когда мои люди стучали в дверь рукояткой револьвера, торжественно кричали в ответ: «Салют!».
— Этим приветствием здесь принято отвечать на стук в дверь.
Лейтенант кивнул.
— Забавно, когда смерть приветствуют словом «Салют!». А вот высокородный падре Хулио, он даже привязал дверь проволокой и в ответ на наш стук крикнул высоким пронзительным голосом: «Уно моменто! Я еще совсем не одет». Было и впрямь очень рано. Но когда мы захотели проверить, есть ли еще в нем признаки жизни, он оказался вполне одетым. И он лежал здесь, — лейтенант каким-то неопределенным жестом указал на каменные плиты пола, все до единой цвета английского крокуса, — нет, не здесь, а там, облаченный в белую мантию, он лежал ничком, когда мы перевернули его лицом кверху, на коричневой рясе оказалось совсем немного крови, а сам он был еще жив. Устремив на нас снизу, с пола, укоряющий взгляд, он сказал громко и внятно: «В такую рань не принято врываться к людям даже для того, чтобы их убить». Тут он продемонстрировал нам свои красивые зубы и испустил дух.
Пако напряженно смотрел на толстые губы говорящего, словно вдруг утерял слух и считывал слова с губ. Но лейтенант замолчал, и тогда Пако вздрогнул, воздел руки, прижал к груди большие пальцы, а остальными пальцами произвел какие-то порхающие движения.
— Teniente дон Педро, если можно, я хочу пить, я очень хочу пить, а если б еще и сигарету…
Лейтенант Педро протянул ему свой портсигар, дал огня и при этом спросил:
— Вы, верно, знали покойного?
Пако кивнул.
После этого лейтенант вышел и, выходя, сказал, что хочет сам посмотреть, нельзя ли раздобыть какую-нибудь еду. Пако глядел ему вслед через дверь, через дыры в двери и непонимающе качал головой.
Он нагнулся, словно ища чего-то на полу, он нагибался все ниже и ниже и под конец упал на колени, поцеловал каменные плиты, какое-то время лежал недвижно, закрыв руками лицо. О, падре Хулио, босоногий кармелит, граф, интеллектуал, шут и друг! Друг, насколько это вообще возможно среди послушников, друг беспокойному Пако, друг падре Консальвесу, ну, пусть не друг, но наперсник, хотя нет, именно друг… И вот здесь в келье беглого Консальвеса он, оказывается, принял смерть. Пако же пришлось вернуться, чтобы узнать об этом.
Склонившийся ниц внезапно вздрогнул, как вздрагивает человек, чуть не забывший о чем-то очень важном. Он рывком поднимается с пола, подходит к окну, открывает, и его пальцы ощупывают внешнюю сторону железных прутьев решетки, сверху и снизу, там, где их держит камень, сверху и снизу, при каждом прикосновении он, словно возбуждающий удар тока, воспринимает глубокую зарубку, тут наконец переводит дух, и воздушный поток, дрожа, вливается в него: сегодня же, ночью! Он чувствует щекочущее возбуждение между лопаток, он даже пыхтит от удовольствия, а потом стоит совсем тихо, устремив взгляд на плиты пола. Да, именно падре Хулио, когда его, Пако, начали стеснять решетки на окнах, — ведь не по доброй же воле он заделался монахом, — на полном серьезе посоветовал надпилить прутья решетки — только чтобы они не падали, и тогда вся решетка будет не более как предмет декорации и одновременно символ добровольного пленения!
В недалеком будущем им предстояло рукоположение, и Хулио тогда еще носился с мыслью покинуть монастырь, хотя уже возложил на себя обет. Поддавшись настояниям родителей, он вступил в орден, где благодаря богатому вкладу и громкому имени ему втайне предоставляли всевозможные свободы. Кончилось тем, что кающийся фанатик Консальвес ушел через два года после рукоположения, а вот падре Хулио, на ту пору гостивший у своих родителей, падре Хулио, слабодушный и нерешительный эстет, тот вытерпел заточение в монастыре и умер такой смертью, что даже его убийцы не без удовольствия рассказывают о ней.
А теперь Пако своим побегом будет обязан шутовскому совету падре Хулио, ибо решетка, несомненно, была всего лишь декорацией, этой ночью она будет выломана и — Пако хмурит брови: окно все-таки расположено слишком высоко в стене, метров десять будет. Он пытливо обводит взглядом келью: а вот он, набитый соломой тюфяк, средство, известное из многочисленных историй о беглых матросах. Сюда бы нож, а то ткань очень толстая — ах, и вот еще: под занавеской, прикрывающей вешалку для одежды, Пако видит торчащий кусок проволоки, грубой цинковой проволоки, с помощью которой Хулио, быть может, привязывал ручку двери. Пако разглядывает неровный, свернутый без всякого старания моток проволоки, но тотчас роняет приподнятую было занавеску и ощупывает ткань. Ткань явно из родительского дома падре, из замка, в остальных кельях парчи нет. Бедный Хулио, ты всегда был готов прийти на помощь, ты был очень изобретательный — и остался таким по сей день. Интересно, где они его похоронили?
По сути Хулио был человек очень беспомощный. Он никому не мог противостоять. Ни родителям, которые заточили его сюда, ни своим убийцам, которые намеревались извлечь его отсюда… А вот мне он теперь поможет выбраться… Складки на щеках у Пако словно две зияющие раны, и раны эти все не заживают, потому что смех то и дело разводит их края.
Пако глубоко вздыхает и подходит к конторке, на которую со старинного медного креста взирает святой Иоанн. Приблизив свое лицо к глазам святого, он тотчас со вздохом качает головой: почему они все так скорбно взирают на мир из своего ореола? Правда, отцу-основателю ордена довелось собственными глазами увидеть, как сын его, падре Хулио, стоял, оборотясь лицом к двери, и кричал: «Один момент!» Но видел он и как падре Хулио, мечтательно улыбаясь про себя, пишет латинские стихи: кузинам, бывшим соученицам, впрочем, может быть, именно это еще больше испортило настроение строгому отцу-основателю.
Непроницаемое лицо Пако при взгляде на святого расплылось в улыбке. О да, нетрудно понять этот пытливый, вечно неудовлетворенный взгляд. Святые, любящие и мечтатели-утописты продолжают каждый на свой лад выдумывать мир, но все они вскоре замечают, по крайней мере лучшие из них — тут Пако сочувственно подмигнул святому, — что на этой земле куда как трудно пристроить небесные видения. Когда образы чистой мечты не вписываются ни в какие рамки, когда действительность предстает буйным незрячим растением, которое терпит и святых, и любящих, и мечтателей как травяную тлю, от этого впору предаться унынию. Но до чего же печален был бы наш мир без уныния, питаемого неосуществимой мечтой! Подтверждение этому Пако видел на собственном примере всякий раз, когда вознамеривался стать разумным и практичным, стремясь лишь к тому, чего требует телесное благополучие. Процесс этот можно было сравнить с желанием при виде юрких рыбок стать одной из них — человек низвергается к ним, но вскоре осознает, что для жизни в водной стихии потребно возникновение одних органов и отмирание других. Тогда уж лучше страдать, страдать унынием как своего рода одышкой, чем внизу задохнуться от него.
Ранее, в средние века, существовало восемь грехов, и восьмым считалось уныние. Роскошно. Потирая колючий подбородок, Пако медленно ходит по келье. Но теологи тогда не знали, как это использовать, подобно тем активным людям, которые не знали, что им делать с тоской. А вот я, рассуждает далее Пако, ступая по тем же плитам, на которых умер падре Хулио, я снова хотел бы стать практичным, проявить благоразумие, я размышляю о возможностях побега и при этом мной владеет тревожно-двойственное чувство. В моей келье, в его смертной комнате — почему, собственно, эта поспешность, дабы вырваться отсюда? Потому лишь, что решетка надпилена, уже двадцать лет как надпилена, потому что этой келье присуще желание избавиться от меня, так ведь? Пако трется плечами о стену — чувство довольства и одновременно блошиные укусы, чего он, впрочем, не осознает, подстрекают его к этому движению. И, выныривая из глубины, он восклицает: «Салют!» Да, в дверь постучали, а к нему снова вернулись монашеские привычки, и келья явно не без благосклонности снова приняла его в свои стены.