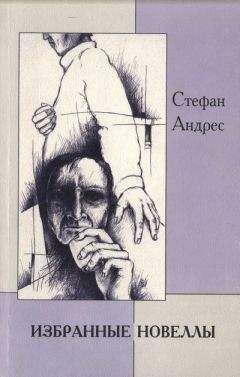— Смертельная опасность? Ну да, конечно, идет война.
Лейтенант презрительно рассек рукой воздух.
— Да нет, я не про эту опасность. О ней я даже и не думаю. Здесь другое. Каждое утро, проснувшись, я плаваю в поту, такая мерзость, доложу я вам, со мной никогда ничего подобного не бывало, пока эти проклятые монашки… — Его слова вздыбились, словно скакуны перед листом бумаги, потом одолели этот барьер с диким проклятием, содержавшим помимо всего прочего непристойное ругательство по адресу девы Марии и непорочного зачатия. Пако покачал головой.
— Вы, надо сказать, весьма грязно ругаетесь — и все это лишь из-за каких-то монахинь, не правда ли?
Услышав такой укор, лейтенант запыхтел, потом наконец кивнул:
— Я вижу, что сам себе причиняю вред, но вы ведь ничего не знаете. По вечерам, ложась в постель, я боюсь сновидений, вы можете представить себе подобное у закаленного солдата, а я именно таков! — Он снова выругался, но на сей раз проклинал черта. — Может, все это лишь дурацкое суеверие — я говорю не об исповеди, я говорю об этих снах, об этом страхе, словно кто-то подстерегает меня, кто-то, кого прислали монашки.
И тут Пако спрашивает:
— Какие монашки?
Впрочем, думает он явно о чем-то другом.
Лейтенант испуганно отворачивается и мотает головой.
— Потом, падре это узнает на исповеди, потом.
А Пако и в самом деле думает о другом, он думает так: если бы я сейчас сделал вид, будто хочу отрезать себе еще кусок сыра — нож ведь очень острый и прочный, — получилось бы быстро и без шума. А уж потом, с его револьвером, только и делов, что открыть на бегу две-три кельи, а если выскочить из-за угла внезапно, навряд ли охранники так и лежат за пулеметом в боевой позиции…
Но это нельзя назвать собственно мыслями, это функционирующее против его воли солдатское подсознание, безостановочный зов профессии, который побуждает вышедшего погулять сапожника глядеть на ноги встречных пешеходов. Пако морщится, словно у него вдруг заболела голова, и говорит:
— Ну, ваш пост не такой уж и безопасный.
В этих словах звучит почти угроза. К слову сказать, Пако и сам удивлен.
— О! — Лейтенант Педро издает губами непристойный звук и смеется через нос. — Уж не думаете ли вы, что я боюсь своих пленных? Что до пленных, — он внезапно умолкает, бросив на Пако косой взгляд, его толстые пальцы нервно теребят усики, — нет и нет, — он опускает голову, — этих — нисколько, против них существуют пулеметы. Но вот сны, сны… доложу я вам.
Он резко откидывает голову.
— Вы при всем желании не можете себе представить, что я натворил, кто-кто, а вы не можете. По сравнению со мной вы дитя, хотя и не способны это себе представить. Мои грехи навещают меня во сне, и это — о, misercordia [10]!
Он топает ногой и снова отворачивается, словно бы от страха. На Пако накатывает странная, смутная досада: ну почему, почему этот подонок никак не может вывести меня из терпения, сейчас самая подходящая минута, а я, как на грех, не в форме… Он принес мне поесть и попить, а заодно принес нож, ну почему он так наособицу глуп, чтобы давать пленнику нож, а потом сидеть в такой позе, словно дожидаясь удара! Мало того, он еще видит вещие сны! Доверие вполне может обернуться бесстыдством. Ведь, в конце концов, я его враг, даже сейчас у меня остается право использовать для побега любую возможность, любую. Иначе чего ради на нас нацелены пулеметы? Короче, поворачивайся, не то…
Пако глядел на лейтенанта, прищурив глаза, он не продумывал все это по порядку, слово за слово, просто это глухо накапливалось в нем, но разозлиться он не мог. Крепкая спина перед ним была придавлена к земле таким горем… и вот он медленно возложил руку ему на плечо и сказал:
— Мне и своих грехов хватает, обернитесь, солнце уже, наверно, село, а стыдиться вам нечего!
— Стыдиться! — Лейтенант резко хохотнул.
— Вот именно, — Пако кивнул, — когда, закашлявшись, выплюнешь в лицо даме рисовое зернышко, принято стыдиться, но когда прикончишь парочку-другую монахов…
— Монашек, — прошептал тот, — монашек, а теперь они являются… и в прошлую ночь вели себя просто нагло, поверьте, просто нагло.
— Ну, в конце концов, они на это имеют право, — пробормотал Пако.
Нет, на это — не имеют, — выкрикнул лейтенант придушенным голосом, — они жестокие, эти бабы, они хуже, чем был я сам. В конце концов — они умерли, и все тут, но я-то, я сотни раз стреляю себе в голову, а они обступают меня, как базарные торговки, и хохочут, и хохочут, дурищи сухопарые. И всякий раз, когда из-за их смеха я прикладываю револьвер к виску, они смеются, да так, как могут смеяться только мертвые. А мой револьвер всякий раз превращается в какой-нибудь предмет — вдруг из него возникает консервный нож, цветок, или, представьте себе, ключ от дома, или он разваливается на две половинки, или из дула течет вода, разве это не… А они смеются. Вы когда-нибудь слышали, как смеются мертвые?
— Никогда. Я и вообще не знал, что мертвые способны смеяться. Но уж не думаете ли вы, что исповедь помешает им смеяться и впредь?
Почесывая спину, Пако прислонился к стене. В голосе у него хоть и не было издевки, звучал он весьма холодно. Далее Пако продолжал тем же тоном:
— Не думаю даже, что мертвые жестоки. Это вы, вы жестоки, а не мертвые.
— Я — дьявол, — проскрежетал неясный силуэт, теперь он казался очень маленьким, этот teniente дон Педро. Пако бросил взгляд поверх лейтенанта, на противоположную стену. Стена как-то смещалась в убывающем свете дня.
— Дьявол? Нет, вы человек, более того, человек верующий. Ну не странно ли, что люди веруют и в то же время грешат, а еще более странно, что они грешат, не переставая веровать.
В дверь постучали. Лейтенант мгновенно преобразился, в два шага решительно достиг двери и вышел. Пако слышал, как снаружи его дверь закрывают на задвижку, и оскорбительный лязг задвижки пробудил его от прежних мыслей: заперли, как свинью в закуте, — пронзило его. Трезвым взглядом он пытливо обвел келью, спрятал нож и подошел к окну. Жара если и спала, то очень незаметно, через полчаса станет совсем темно или, во всяком случае, достаточно темно, чтобы двинуться по голому плато в направлении, заданном дальним громом пушек. А может, надо будет двинуться в другую сторону, ведь спустя два часа над землей уже встанет узкий серп растущего месяца. Не важно, где выйти, главное, не сидеть больше под замком, словно свинья на откорме.
В соседней келье тихо и монотонно запели два голоса, это походило скорей на гудение, которое издают люди, когда мелодия застряла у них в сердце, а грудь еще слишком тяжела и неподвижна, чтобы за ней последовать. Пако вслушался. Он почти не знал тех, кто был пленен вместе с ним, он всего лишь несколько дней успел провести в их части вместе со своим лейтенантом дон Хуаном и еще одним приятелем, который, кстати, тоже погиб, когда вчера во время наступления их часть окружили.
Но в ту минуту они все-таки держались плечом к плечу, вместе стреляли, потом больше не стреляли, их всех разоружили и увели, все вместе они страдали ночью от голода и жажды, вместе забрались на грузовик, чтобы здесь их потом посадили под замок, всех вместе под одной крышей. Стало быть, теперь надо подумать, как им вместе отсюда выйти, одному нельзя, никак нельзя.
Словно в порыве безнадежной ласки он потряс решетку, которая легко подалась бы при первом нажиме. Вот и опять эта решетка стала символом добровольного заточения, пусть даже ненадолго. Он нащупал нож в кармане штанов, покачал его на ладони, еще можно было разглядеть, как сверкает лезвие, в сумерках оно напоминало кусок льда, который никак не растает на потной от волнения ладони. Пако подумал-подумал, спрятал нож обратно в карман и прислушался у двери. Он слышал отдаленные твердые шаги караульного, сержанта, который ходил по коридору взад и вперед. И Пако постучал. Задвижка взвизгнула решительно и кратко, дверь чуть приотворилась, и сержант не без угодливости — он не мог не заметить, что его командир относится к этому пленнику с известным почтением — спросил, чего тот желает.
— Ах, — с этими словами Пако взял поднос, — тут еще остался хлеб, и сыр, и немного вина. С меня хватит, может, вы… Не знаю, только поднос мне мешает, я бы хотел освободить конторку.
Ни мгновения не раздумывая, сержант схватил поднос — сержантская пайка, если судить по довольному выражению его лица, была не слишком велика — и тотчас скрылся.
Когда задвижка снова взвизгнула, Пако вторично вынул нож из кармана, испытующе провел большим пальцем по острию, затем спрятал его: теперь он мог не сомневаться, что нож при нем так и останется.
Прилегши ненадолго на койку, он поднял глаза кверху и увидел ржавое пятно — это как же?.. Неужто перед ним все то же пятно двадцатилетней давности? Быть того не может, думал он, падре Хулио не стал бы так долго терпеть его, но пятна сырости, они проступают, хоть их бели, хоть не бели, они даже немного расползлись. Пако вздохнул.