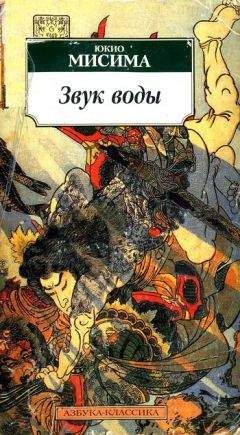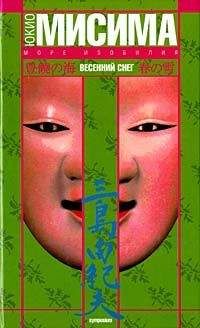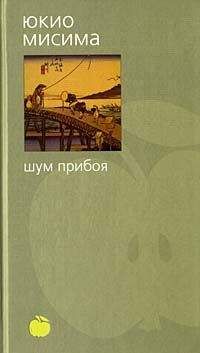Сигэя поставила поднос и вышла. Фусако молчала. Кадзуо тоже никак не мог заговорить. Сбоку от него сидит женщина. Женщина, безоговорочно уверенная в ребе.
Что-то мешало ему сосредоточиться. Наконец Кадзуо заговорил, медленно выговаривая каждое слово:
— Знаешь, я, наверное, больше не буду приходить. Так что сегодня мы попрощаемся навсегда. Мне не стоит с тобой встречаться. И тебе тоже так будет лучше.
Фусако молчала. Он подошел и взял ее за руку. Отпустил. Рука безвольно упала.
— Прощай, — сказал Кадзуо.
От страха он не решился ее поцеловать.
Фусако не встала его проводить. Он вышел в коридор и, прикрывая за собой дверь, краем глаза поймал стремительную тень. Потом у себя за спиной он снова услышал этот маленький выпуклый звук. Фусако закрыла дверь на ключ. Кадзуо остановился: впервые в жизни его не было в комнате, когда этот ключ поворачивался в замке!
Белая полная женщина появилась со стороны прихожей и еще на ходу заговорила:
— Вы уже уходите? Нет-нет, так нельзя. Останьтесь!
В ее руке раскачивалась огромная половая тряпка. С тряпки, как с утопленника, падали на пол бесчисленные капли.
Кадзуо стоял спиной к запертой на ключ двери. Из комнаты не доносилось ни звука. Может быть, сейчас в этой комнате была Кирико.
Женщина подошла к нему совсем близко. Казалось, она хочет загнать его в угол, прижать к стене. И снова он услышал у себя над ухом:
— Вы уже уходите? Нет-нет, так нельзя.
Глядя на лучи ослепительного летнего солнца, Кикуко[7] почувствовала, что и ей тоже уже недолго осталось. В узком заоконном небе одно за другим плыли вспененные дождевые облака. Отраженные оцинкованной крышей соседнего патинко[8], солнечные лучи плясали на потолке комнаты второго этажа, где лежала в постели Кикуко. Кухня на первом этаже почти вплотную, если не считать тонкой канавки, примыкала к спальне хозяев патинко.
Шум из этого заведения был невыносим. Особенно летом. Металлические шарики катались туда-сюда по полю и с громким стуком падали в металлические желобки, а громкоговоритель вместо бодрой музыки, призванной завлекать посетителей, изрыгал какие-то неразборчивые хрипы. В отличие от заводского, упорядоченного шума, все это звучало вразнобой и сильно действовало на нервы. В рабочие дни иногда бывали передышки, но в воскресенье после полудня шум становился непрерывным.
Вчера приходил социальный работник и уговаривал Кикуко поскорее лечь в социальную больницу на лечение.
Этот социальный работник — хороший человек. Пропитан несчастьем, как огурец маринадом. Худой, серьезный — Кикуко нравилось, что он не тратит слов на соболезнования. Единственный сын этого человека был болен ДЦП и дни напролет сидел в темном, старом доме, вырезая печати. Кикуко слышала, что у него было много заказов от самых разных людей.
Кикуко знала, что рано или поздно умрет в социальной больнице. А если ложиться в больницу, чтобы умереть, то лучше уж подольше протянуть дома. Кроме того, так уж повелось, что именно она, выползая на кухню в светлое время суток, готовила завтраки и обеды для обитателей этого дома, в котором не было женских рук, кроме ее собственных. За ужин отвечал старший брат Кикуко — Сёитиро[9], которому недавно исполнился двадцать один год. Мужчины ведь ничего толком не умеют — на ужин чаще всего хлеб с салатом.
Вдобавок сосед — хозяин патинко — недавно решил расширить свое дело и за хорошие деньги покупает этот дом. Поэтому домовладелец выгоняет всю семью на улицу.
«Вот когда ничего больше не останется, кроме как съехать отсюда, тогда и лягу в больницу», — решила для себя Кикуко. Их семья сидела на социальном пособии.
В изголовье у Кикуко воняла плевательница. Горло было забито мокротой. Но для того, чтобы прокашляться и сплюнуть, требовалось слишком много усилий. Эти простые действия были для нее тяжкой, мучительной процедурой. Ночью все ее тело намокало от пота, но днем, как ни странно, она совсем не потела, несмотря на жару. Ее холодная, высохшая кожа потеряла эластичность, а глубоко внутри под кожей всегда ощущался ровный жар.
На лицо села муха. Кикуко не стала ее сгонять — знала, что та все равно прилетит снова. Муха быстро передвигалась, мягко ступая влажными ножками. Когда она шла по руке, было видно, что ее тельце отливает густым зеленым цветом. Все люди со здоровой, лоснящейся кожей похожи на мух. Мухи здоровы настолько, что предпочитают гниение.
Кикуко капнула на ладонь каплю варенья, выпрямила руку и застыла, не дыша. Муха добралась до варенья, опустила хоботок в сладкую лужицу. Кожа почувствовала легкое прикосновение. Кикуко быстро сжала руку в кулак. Изнутри раздалось жужжание, затрепыхались тонкие крылышки. Кикуко уже даже не помнила, когда в последний раз ей было так весело и хорошо. Просунув пальцы свободной руки внутрь кулака, она аккуратно и с удовольствием оторвала у мухи крылышки.
Бескрылую муху она посадила рядом с подушкой и долго наблюдала за ней. Муха не двигалась с места. Наверное, она хотела взлететь, но не могла, а ходить ей было невмоготу. Обескрыленная муха, теперь казавшаяся неприятно толстой, поблескивала у подушки. Кикуко завела с ней разговор:
— Милая муха, я вовсе не такая жестокая. Просто у людей, которые знают, что скоро умрут, должна быть какая-то надежда, значит, и у меня тоже есть право на надежду. Некоторые до самой смерти надеются на выздоровление, а я… Знаешь, я просто надеюсь на то, что мир в одну секунду возьмет и полностью изменится — из-за какого-то одного-единственного события, например если толстая зеленая муха вдруг останется без крыльев.
Необычные для этого времени года облака обложили небо, день потемнел. Откуда ни возьмись налетел ветер. Поволок муху по грязной простыне, пока она не уцепилась за какую-то нитку… Если аккуратно и осторожно сделать что-то такое, вроде отрывания мушиных крылышек, то можно стать свидетелем этого превращения мира…
…Звук стеклянной двери внизу, скрип ступенек — для Кикуко этого достаточно, чтобы понять, что к ней поднимается ее отец, Кэндзо[10].
Конечно, старая стеклянная дверь уже давно никуда не годится, но все равно, у других она открывалась иначе, без этого дребезжащего покачивания из стороны в сторону. И медленные, вдумчивые шаги по ступенькам, один за другим, будто человек считает каждый свой шаг, — из той же серии. Вот он перешагивает на следующую ступеньку, плотно прижимая к доскам вспотевшую ступню.
Поднявшись на второй этаж, Кэндзо останавливается в дверях. Некоторое время стоит неподвижно. Потом произносит:
— Эвона как.
Это архаичное междометие давно уже стало оправданием всех его поступков.
Его юката[11] распахнута на груди, он садится на полу возле изголовья. Достает веер, начинает неуклюже им обмахиваться. Веер с громким стуком ударяется о его худую грудную клетку.
Кикуко подняла на отца глаза. Отец взглянул на нее сверху вниз.
— Сегодня ты выглядишь гораздо лучше. Верно, скоро поправишься. И личико у тебя со вчерашнего дня посветлело. — Отец нараспев произнес слова, которыми утешал ее каждый день.
— Ты снова ходил гулять?
— Да, сегодня я нагулялся. Ходьба и для тела полезна, и чем дальше от дома уходишь, тем меньше вокруг людей, которые знают местные сплетни. А тут еще в последнее время куда-то пропали розовые лепешечки. Должно быть, из-за кризиса. В соседнем патинко от клиентов отбоя нет, а как розовые лепешечки, так сразу кризис.
Последнюю фразу Кэндзо пропел еще раз:
— А как розовые лепешечки, так сразу кризис. Лиси-ичкины лепешечки… Ну вот, прошагал я два ри[12] и нашел то, что нужно. С пылу с жару. — С этими словами он извлек из рукава вонючий сверток и положил его на татами. Конский навоз. Вслед за этим он достал детские гэта[13] без ремешка, семь шариков для игры в патинко, намокшие бумажные обрывки и сплющенную жестянку из-под пива. Аккуратно разложил все это на полу. Из какого-то необъяснимого тщеславия Кэндзо всегда называл подобранные на улице вещи покупками.
— Какие замечательные покупки, — произнесла больная тихим, невыразительным голосом и переставила баночку варенья на другую сторону. Ей показалось, что запах свежего конского навоза, подобранного с распаленной летней мостовой, вот-вот изнасилует тонкий аромат старого заплесневелого варенья, которое она берегла как зеницу ока.
…Выброшенные на берег вещи. Грязное пригородное море часто выносит на песок гэта, клочки бумаги, пивные жестянки. «Это все ложь, что убогие вещи бедняков не оставляют простора для воображения», — думала Кикуко. Окруженная отцовскими находками, она легко могла представить себя качающимся на волнах утопленником. Море, где она так давно не была. Как должно быть прохладно в этот жаркий день плыть мертвецом по воде. От высохшего пота ее кожа сделалась солоноватой, как от морского бриза.