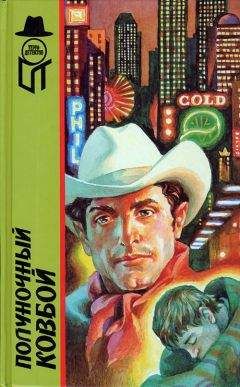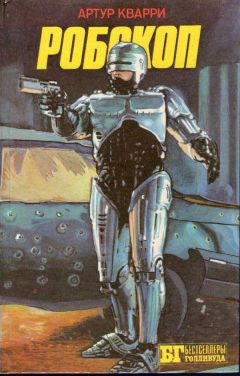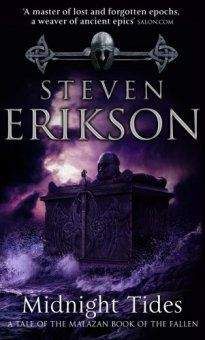Крошка вернулся из гостиной, сопровождаемый песней «Волны качают лодку моей мечты», и вмешался в разговор:
— Всю эту кошмарную историю мамочка рассказала для того, чтобы в итоге продемонстрировать вам свое увядшее вымя. Она здраво рассудила, что вы ее об этом просить не станете, и решила проявить инициативу.
Хуанита нахмурилась, словно прислушиваясь:
— Я ведь всю твою брехню слушала, шут гороховый. Дальше ехать некуда. Ну держись, теперь тебя сам Господь не спасет.
— Но, мамочка, ты неправильно поняла. Я имел в виду, что гостей могло бы заинтересовать другое зрелище — то, что у тебя пониже. Ты готова? Музыка — туш…
— Что он болтает? Что? Перри, растолкуй.
— Он говорит, — Перри тщательно произносил слова, — что Долорес скоро будет готова и присоединится к нам.
— Да-да. Ну, так вот, Дарлингтон Босоножка разок взглянул на этого урода, потянул носом — а воняло от него страшно — и дал деру. Улетел как молния, смазанная салом. И что ж, он виноват? Он ведь как думал, его папаша, Дарлингтон то есть, был мужик суровый. Чего же было делать, — взять этот кулек с дерьмом, меня в придачу и заявиться к своему папаше — дескать, прошу любить и жаловать? Дудки!
— Впоследствии, — добавил Крошка, — мамочка, которая имела кое-какой опыт общения с мужчинами, не испытывала трудностей по части заработка, правда, ей пришлось из-за сильной конкуренции специализироваться на Богом обиженных — слепых, алкоголиках и так далее. — Он застенчиво подмигнул Хуаните и помахал ей рукой. — Я рассказываю им, — он повысил голос, — сколько трудов ты, мамочка, положила, чтобы вырастить меня.
Алый рукав кимоно резко взметнулся, и стакан с виски влетел в кресло-качалку. Но огромный белокурый метис успел вскочить. Он подхватил пустой стакан, который не разбился, и обратился к матери:
— Тебе что, выпивки не жалко?
Хуанита разговаривала с Джо:
— Как ты думаешь, почему я так вожусь с ним? Да потому, что полюбила его как родного сына. Можешь звать меня полной идиоткой и будешь прав.
— Я тоже люблю тебя, мамочка, — ответил Крошка. — А еще люблю змей, полицию, войну, огромных волосатых пауков и… что же еще? Ах да, рак прямой кишки.
— Что бы он ни болтал, пусть даже всякие гадости, но я знаю, в душе он меня любит и уважает. Верно, Крошка?
Теперь пластинка запела фальцетом: «Когда ползут вечерние тени, из-за тебя я теряю сон». Где-то в глубине дома сильно хлопнула дверь.
— Это колокольчик Долорес — она вызывает тебя, — сказал метис матери.
— Скажи, что я велела прийти ahora mismo[5]. Если надо — пятки ей подпали.
Крошка ушел, а Хуанита начала плакаться:
— Что-то с ним будет, Перри! Бедняжка, я так боюсь за него. Всякий раз, когда он отправляется в Новый Орлеан, или Даллас, или куда там еще, и пытается зашибить деньгу, легавые его хватают и приводят обратно к мамочке. Всю душу вымотали. Так что я его пристроила работать тут. А может, я слишком добра к нему? Он торчал в Пенсаколе целых три месяца. Я подумала, ну, слава Богу, избавилась от него наконец, но нет, приперся на прошлой неделе. Понятия не имею, что уж там случилось в Пенсаколе, он словно в рот воды набрал. Он ведь уродлив, как смертный грех, настоящий гадкий утенок, от его вида всех блевать тянет. Кроме меня. А мне что делать? Я его в ученики к парикмахеру пыталась устроить, так он толком ножницы держать в руках не умеет, хорошо еще никому уши не пооткромсал. Только представь, чего я натерпелась, а ведь он мне не родной. Я тебе скажу, кто здесь виноват — дурная кровь, да, дурная кровь, и ты хоть тресни, ничего с ней не сделаешь. — Из коробки на столе она извлекла тряпицу и трубно высморкалась. — Да я понимаю, вам-то что за дело. А я — женщина чувствительная, чтоб мне пусто было, но веду себя, как хочу, а кому не по нраву, может уматывать на все четыре стороны.
Хуанита прикончила стакан. Спиртное на нее подействовало. Она сгорбилась, запрокинула голову, зажмурилась и поджала губы. Затем, словно жрица таинственного культа, глубоко вздохнула и принялась тыкать пальцами в голову, шею, грудь, приговаривая при этом:
— Тут болит, тут, тут и тут. А всем плевать! И мне тоже. Мне не больно. Налей мне из той бутылки, Перри.
Крошка, приторно улыбаясь, появился в комнате и опустился в качалку.
— Долорес поинтересовалась, — сообщил он с чувством глубокого удовлетворения, — сколько лет сеньору. Я ответил, что приблизительно семьдесят три. И теперь она рыдает.
Хуанита потребовала, чтобы сын повторил. Тут до нее дошло. Она вытянула ноги и встала. Краем глаза Джо углядел, как мелькнули ее коленки — совершенно непохожие на Саллины. В худобе Хуаниты не было ничего трогательного и не брало за душу.
— Эй, — обратилась она к Джо, — ты извини, конечно, но я заберу Перри на кухню. Мы с ним посекретничаем.
Джо по-свойски помахал рукой и скорчил понимающую рожу — дескать, знаем, о чем можно секретничать на кухне в бардаке, знаем.
Хуанита пошла к двери, но остановилась рядом с Джо и принялась разглядывать его в упор. Потом кивнула:
— Жеребец первый сорт. Будь у меня такой парень, я б его послала на Восток, в Нью-Йорк. Там баб голодных и педиков навалом, деньги лопатой загребать можно. Я б такого жеребчика холила и нежила. — Она передернула плечами и отошла. — А у меня вон что, полюбуйтесь. — Хуанита ткнула пальцем в Крошку. Затем она и Перри удалились на кухню.
Джо прекрасно понимал, что хозяйка — просто мерзкая старуха. От ее слов он бы, на месте Крошки, сто раз провалился сквозь землю. Она жадная, бессердечная, сварливая. Он понимал также, что у Крошки, который развалился в качалке, по-старушечьи скрестив руки на животе, язык — что поганое помело, а сердце полно яда. Да и сам дом, с его темными закоулками на каждом шагу, вызывал страх, походил на змеюшник. Но если бы Джо предложили поселиться здесь, с этими людьми, он бы, не раздумывая ни секунды, согласился. Ведь их в доме двое, они не одиноки, они терпят и этот дом, и друг друга.
Что их связывает? Любовь? Ненависть? Как родилось это чувство? К чему оно приведет?
И была еще в единении этих двух людей некая особенность, за которую Джо отдал бы все на свете, — они, как ни крути, были нужны друг другу.
Джо почувствовал на себе взгляд метиса и поднял свой стакан.
— Ну поехали, Крошка! — Стакан Крошки был пуст. Он нервно шевелил пальцами на животе, смотрел на Джо и криво улыбался:
— Давай!
И все смотрел, все улыбался.
Едва с пластинки зазвучала песня о гробнице Святой Цецилии, на пороге появилась Хуанита.
— Сынок! — Она поманила Джо пальцем. — Иди-ка сюда. Мы тебе кое-что приготовили.
Джо пошел за Хуанитой через гостиную, а потом по длинному темному коридору.
Хуанита остановилась перед закрытой дверью и постучала.
— Он здесь, Долорес. — Она кинула взгляд на Джо. — Ну давай, сынок, развлекайся. — Нажала ручку двери и мягко подтолкнула Джо вперед.
В углу комнаты стояла девушка не старше семнадцати лет, невысокая, темноволосая, с гладкой кожей. Длинный синий халат плотно облегал ее тело, словно оберегая его. В глазах девушки смешались страх и враждебность, она, казалось, только и думала, как избавиться от непрошеного гостя. Джо закрыл за собой дверь и сделал шаг к девушке. Она тут же сжалась.
— В чем дело, мисс?
Девушка молчала. Джо, смутившись, хотел было ретироваться, но стоило ему взяться за дверную ручку, как раздался ее голос:
— Не уходи!
Они посмотрели друг на друга. Постепенно страх и враждебность исчезли с лица девушки, сменившись покорностью. Она повернулась спиной к Джо и принялась неторопливо развязывать пояс. Сбросив халат, она кинулась к кровати. У Джо возникло ощущение, что он совершает нечто постыдное. Девушка лежала на спине не шевелясь, устремив глаза в потолок.
Выждав минуту, Джо приблизился к кровати и заглянул ей в лицо. Она и глаз не подняла.
Джо старался не смотреть на ее тело. Он чувствовал, что у него нет права обладать им, но полностью совладать со своим взглядом не мог. Помимо воли он пожирал глазами соблазнительные округлости оливкового цвета, таившие в себе радость и негу. Два бугорка были увенчаны розочками, а третий, самый нежный, таинственно темнел внизу.
— Послушайте, мисс. — Джо протянул руку. Ему хотелось поговорить с девушкой, рассказать ей что-то важное, сокровенное о себе. Например, про то, как еще подростком он понял, что в любви нельзя искать только собственного наслаждения, иначе ничего не выйдет. Но думать об этом — одно, а сказать — совсем другое. Язык не поворачивается. — Я вот что думаю, мисс, если, конечно, вы не возражаете, мы могли бы просто…
— Не говори ничего.
Джо обошел кровать, поднял с пола халат и накрыл девушку. Она вытаращила глаза от изумления. Он замотал головой, стараясь показать ей, что не стремится к близости. Девушка пристально наблюдала за ним, ожидая подвоха. Джо предложил ей сигарету. Она отказалась, и он закурил сам. Не отводя глаз от Джо, она подняла голову, лежащую на локте, и похлопала ладошкой по кровати, рядом с собой. Джо подошел и присел. Она забрала у него сигарету и потушила ее об изголовье, оставив черный след на дереве.