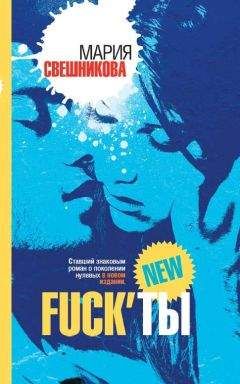Я одинокий человек.
Вдруг я задумалась: ведь любой сознательный выбор — согласие платить! Кто такой Романович, чтобы из-за него переживать, кто такой Макс, чтобы я парилась? Второй вопрос волновал меня больше. Зависимость от мужчины, которого я видела три раза в жизни, начинала пугать.
Прямо в одежде я легла на софу в форме банана и впала в дремоту, укрывшись шарфом. Жанна, наверное, сейчас, бренча своими ключами, отпирает замки, улыбчиво пахнущая утром, подходит к Алеку. И он возвращается к своей привычной жизни, в контекст которой я не вписываюсь. Мне стало мучительно больно — я вызвала такси. Спустя двадцать минут мы приехали на Котельническую набережную по нужному адресу, минуя высотку и еще несколько домов архитектуры Жолтовского.
— С вас двести сорок рублей!
Я протянула ему пятьсот сразу.
— Я просто выкурю сигарету и мы поедем обратно. — Я стала изучать окна, выбирая те, что больше по душе. — Здесь живет девушка человека, в которого я иногда влюблена.
Таксист рассмеялся и переключил волну.
Это была обратная сторона жизни Алека, битву с которой я проиграла уже давно.
Я не ревную, мне просто дико больно, настолько дико… и оттого признаю, что я — наивно одинокий человек. Когда хочу спать — вечно признаюсь сама себе в очередном грехе.
Через час после прибытия я сомкнула глаза, и, как это обычно бывает, меня разбудил звонок, и этот номер не был записан в моей телефонной книжке.
— Эй, я же тебе нравлюсь! А ты мне…
Черт, на улице идет снег, утром же дождь был — вот чудеса на виражах!!! А еще пульт от телевизора кнопочками отпечатался на моей щеке.
— А я сплю.
— А ты не спи.
— …
— Давай в три у входа в «Пушкинский».
— Посмотрим, — сказала я, вспоминая про такого персонажа, как Кирилл, который все-таки был обременяющим фактором сего мероприятия.
— Вместе и посмотрим.
Мне так хорошо лежалось на лопатках, не хотелось переворачиваться на другой бок и просыпаться, если это все был сон.
— Давай.
Он просто повесил трубку, экономил деньги на безлимитном тарифе. И мне это нравилось.
Вообще по субботам евреи не включают свет дома. Но ни к одному из моих это не относилось. Мы всегда сидели в полной иллюминации, чтобы лучше видеть мимику и тело.
Хочу в детство, на дачу, чтобы пахло бабушкиными щавелевыми щами, а дедушка старой алюминиевой косой ровнял поляну и чтобы потом мы с братьями граблями собирали траву в маленькие стога. По выложенной камнями дорожке пройти вдоль кустов смородины и сорвать пару полуспелых ягод, надкусить каждую и выплюнуть, а потом поднять покрашенный в бордовый подоконник и достать ключ. Открыть дверь и забраться на второй этаж, и сквозь огромные окна террасы смотреть на сосны и чужие участки, и, пока снизу доносятся запахи летней еды, изучать старый черно-белый телевизор, крутить тугие ручки и думать о том, сколько людей живет по ту сторону странного выпуклого стекла. А потом бабушка нальет суп, мы помоем руки белым мылом, дедушка будет за что-то ругать, а все остальное — это пустое.
Жаль, что сейчас я уже знаю, что Останкинская телебашня имеет фаллическую форму, телеведущие живут дома, а не в телевизоре, и что все дело в хромокейных павильонах. И никакой романтики нет в бетакамах.
* * *
Вся в белом: свитере, брюках, со снежными ногтями — я приехала на встречу. Он сидел на лавочке возле музея и курил. Когда от меня до него оставалось метров пятнадцать, я остановилась и набрала его номер.
— А ты где?
— Ты знаешь, где я!
Не сработало. С ним вообще все не так, как со всеми. И моего старого доброго еврейского друга с фамилией на букву «Р» жалко.
— Давай не пойдем в музей. Я его знаю наизусть, а офорты — это не картины. Это дополнительный маркетинговый ход. Что-то вроде нижнего белья.
— А что ты имеешь против нижнего белья?
— Да я только за… Ты только это… Ничего такого не подумай.
— А куда мы поедем?
— Не знаю.
— И я не знаю, — уныло сказала я и села на скамейку рядом с ним. — А откуда ты знал Киру?
— Мы с ней встречались.
Бах. Моцарт. Шуберт. Реквием по ушам.
— Как это?
— Ты что, не знаешь, как люди встречаются? Я не самый лучший человек, и зря ты сейчас здесь.
— Кто? Я?
— А у тебя есть молодой человек?
— Наполовину.
То есть Романовичу я даю полбалла, а Кирилл, который, по сути вещей, должен был получить единицу, округлился до нуля.
— Ты его ревнуешь?
— А должна?
— Перестань отвечать вопросом на вопрос!
— Почему?
— Вот скажи мне. Ты пишешь очередную статью или рассказ в журнал. Откуда ты берешь сюжет? Из пальца высасываешь?
— Из жизни. А откуда ты знаешь про то, что пишу?
— Из статьи про французский маникюр. А этот разговор потом окажется на страницах очередной беллетристики?
— Может быть. Что ты творишь? Мы встретились посмотреть офорты Дали, а ты засыпал меня непонятными вопросами, на которые нет ответов. Что происходит?
Он рассмеялся и обнял меня:
— Да, ладно тебе, я же шучу. Просто ты мне очень нравишься.
Я смотрела на него: в темно-серой куртке «1881», джинсах, вместо страз украшенных странными манерами шутить.
— Скажи, а ты еврей?
— Ну, есть такое дело. А что, заметно?
— Да нет. Так, пальцем в небо.
— А еще я женат.
А еще шел снег и пушистыми паклями падал на мокрый асфальт.
* * *
— Я не понимаю, почему он тогда тебя так злостно обломал? Неужели ты его не возбуждала? — спросил мой герой, прервав мой рассказ.
— А ты меня сейчас хочешь?
— Да. Но какое это имеет отношение к делу?
— Самое прямое, он тоже очень хотел. Именно поэтому и не было.
— Не верю я в такое «хочу, но не буду», тем более с мужской стороны.
— Так ты мне все еще не веришь?
— Нет. И, честное слово, не хочу. Ты — никто, ты просто прыгаешь с одной волны на другую вместо того, чтобы плыть туда, куда хочешь.
— Но заметь, именно такая я тебя и привлекала.
— Одно дело привлекать, но от тебя очень хочется убежать к швабре!
— Беги, дружок!
— Нет, я тебя дослушаю…
* * *
Через пару часов я вернулась домой, думая вовсе не о Максе, а о правде, о том, где же те самые ее границы с ложью, и о том, что если бы точная и верная информация была бы книгой, то уже после первой страницы было бы невозможно остановиться, потому что вскрытие фактов — это самый страшный наркотик, на который мы тратим последнюю сладкую ложь, забираем ее у тех, кому она нужна больше всего. Соврите мне, что все будет хорошо.
«Меня домогается твоя сестра» — это сообщение никак не покидало мои мысли, местами проскальзывала мысль ей позвонить и расставить все точки в интересующем меня пространстве. Но тогда я никогда не смогу понять ту точку, через которую и начала проводиться та самая ложь. А может, черт с ним, с пониманием, и лучше сразу закончить этот глупый фарс. Но когда выбран путь почемучки, очень тяжело остановиться, как будто бы я разогналась до двухсот, образовалась воздушная подушка, и я больше не управляю, а верхом на судьбе и желании жить несусь вперед.
И как раз одновременно с этими умозаключениями Карина написала мне сообщение «прости меня за все», я, не спеша, ответила «за что? Ты скажи, и я прощу, я обещаю», она не удостоила меня ответом, а, встретившись наутро, стала избегать того самого «прости». Я сидела внизу в монтажке и прямыми склейками соединяла отснятый материал. Мне курсовик сдавать первого апреля. А все, что было, — это титры и пара красочных видов, с которых можно было начать все, что угодно, даже ленту криминальных новостей.
Офис располагался в полуподвальном помещении и, когда я в него впервые зашла, напоминал бордель. Один мой детский друг рассказывал, что в Амстердаме есть «Энрике Палас», где любой мужчина может за пятнадцать евро совершить необременительную прогулку по коридору с дырочками в стене на уровне пениса. И женщины, чьи лица скрыты от обывателей, доставят им удовольствие без надобности гладить волосы и заправлять мешающие пряди за уши.
Такого коридора у нас не было, как и красного фонаря возле крыльца. В остальном все то же. Полумрак и красные диваны.
* * *
А вечером мне позвонил детский друг Насти, который переехал за семь квартир от меня, вниз по лестнице. Вова очень медленно говорил, и этим напомнил мне окулиста, к которому я ходила в начале недели. Врачи — удивительные личности, хочется им сразу сказать: «Забудьте про анализы и сразу поставьте диагноз „летальный исход“». Пальцем в небо — Вова учился в ординатуре. Он смаковал каждое слово, заставляя собеседника вдуматься в смысл сказанного, проникнуться интонацией. Интересно, а сколько литров гадостей ему уже поведала Настя?