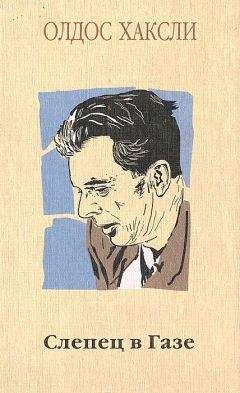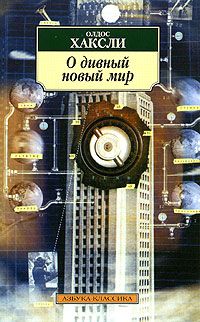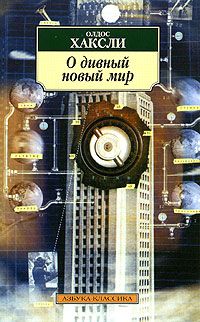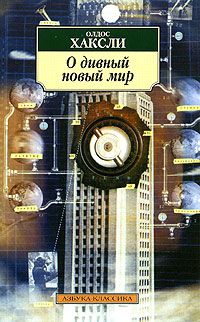— Юстон! — крикнул Джеймс Бивис кебмену.
Осторожно ступая по гладкому скату, лошадь двигалась вперед, экипаж покачивался, словно корабль. Едва слышно Энтони мурлыкал какую-то песенку. Поездка в экипаже всегда приводила его в состояние неописуемого восторга. Перед самым склоном кучер хлестнул лошадь, и та перешла на рысь. Проносясь мимо, они улавливали запахи пива, жареной рыбы, затем проехали «Гуд-бай, Долли Грей» на углу и на полном ходу поскакали по Ватерлоо-роуд. За окнами экипажа ревело и скрежетало уличное движение. Если бы не отец, Энтони запел бы вслух.
Над крышами домов висело яркое, подернутое дымным маревом послеполуденное небо, и внезапно взору его предстала ослепительная река с черными баржами и буксиром, а над горизонтом вдруг поднялся в небо, словно гигантский воздушный шар, громадный купол собора Святого Павла[29], а вот и Стрелковая башня.
На мосту какой-то прохожий бросал хлеб чайкам. Бледные, почти невидимые, они со свистом рассекали воздух, кружились, размахивая серыми крыльями, и, замедляя лет, внезапно взмывали к свету, струящемуся сверху, как белоснежные сполохи на чернеющем небе, затем снова спешили во тьму, словно испугавшись яркого солнца.
Увидев их, Энтони перестал мурлыкать. Конькобежец, прорезающий корку льда, устремится к тебе точно так же, скользя на острых полозьях. И вдруг, словно лишенный покоя, он как будто постиг таинственную значимость этих легковесных птиц.
— Мальчик мой, — начал мистер Бивис, нарушив долгое молчание. Он сжал плечо Энтони. — Мальчик дорогой!
С замершим сердцем Энтони ждал, что он скажет дальше.
— Теперь мы должны держаться друг друга, — сказал мистер Бивис.
Мальчик невнятно выразил свое согласие.
— Не расставаться. Потому что мы оба… — он запнулся. — Оба любили ее. — И вновь повисла тишина. «Если бы он только остановился на этом», — внутренне взмолился Энтони. Но отец продолжал: — Мы навсегда останемся ей верны, — проговорил он. — Никогда не предадим ее, правда?
Энтони кивнул.
— Никогда, — с жаром повторил Джон Бивис. — Никогда! — И он Продекламировал строчки, вертевшиеся у него в голове все эти дни:
Когда болезнь или тоска случит
Меня с тем телом, что в могиле спит,
Ты поселись в моей душе пустой,
Давным-давно покинутой тобой.
Останься там.
Затем громко, почти вызывающе продолжил:
— Она никогда не будет мертва для нас! Она будет вечно жить у нас в сердцах, ведь так? — Пауза. — Она приказала нам долго жить, — не унимался отец, — и мы будем жить вместо нее. Жить честно, благородно, так, как она хотела, чтоб мы жили. — Он чуть было не перешел на жаргон — такого рода жаргон, который понятен школьникам. — Будем жить… ну, как два пацана, — неестественно растягивая слова, произнес он. — А пацаны, — продолжал он сбивчиво, словно импровизируя, — пацаны они всегда пацаны. Настоящие однокашники. Мы с тобой будем закадычными, правда, Энтони?
Энтони снова кивнул. Он испытывал смешанное чувство стыда и недоумения. Слово «однокашники» было взято из школьной летописи. Читать это без смеха было невозможно — обычно чтение сопровождалось злобным улюлюканьем. Однокашники! И это он и его отец! Он почувствовал, как краснеет. Высунув голому из бокового окна, чтобы скрыть волнение, он увидел, как одна из серых птиц слетела с неба и приближалась к мосту все ближе и ближе. Затем она изменила курс, взяв влево, сверкнула, преобразилась и тотчас же исчезла.
В школе все было ужасающе «как нужно». Казалось, уж слишком натянуто. Одноклассники вежливо соблюдали его неприкосновенность, не оскорбляя его бурным проявлением собственного хорошего настроения и, продемонстрировав ему несколько раз свою фальшивую и неестественную дружбу, оставили его в покое. Это, как Энтони скоро обнаружил, было равносильно полному бойкоту. Отношение к нему в классе было хуже, чем к вору и доносчику. Никогда с самых первых дней пребывания в школе он не чувствовал себя таким покинутым, как в этот вечер.
— Жаль, что ты сегодня не был на футбольном матче, — сказал Томпсон, когда все сели ужинать. Он говорил будто с приехавшим навестить его родным дядей.
— Хорошо сыграли? — спросил Энтони с той же наигранной вежливостью.
— О, великолепно! Правда, мы проиграли. Два-три. — Разговор почти выдохся. Чувствуя неудобство, Томпсон судорожно думал, что сказать теперь. Прочитать ему лимерик о леди из Илинга, сочиненный Батервортом? Нет, сегодня он не станет говорить этого вслух, когда мать Бивиса… Тогда что? Громкий смех на конце стола снял напряжение. Теперь у него была уважительная причина, чтобы отвернуться. — Что там такое? — закричал он с деланным интересом, и скоро они уже болтали и смеялись вместе. Словно одевший шапку-невидимку, Энтони смотрел и слушал.
— Агнесса! — кто-то позвал служанку. — Агнесса!
— Агнесса прекрасная принцесса! — сказал Марк Стейтс приглушенным голосом, чтобы она не слышала. Любое оскорбление слуг считалось в Балстроуде тягчайшим преступлением, и именно потому фраза была встречена с огромным энтузиазмом, даже несмотря на sotto voce[30]. «Прекрасная принцесса» вызвала взрыв хохота, хоть сам Стейтс остался невозмутимым. Отсутствие реакции на смех, причиной которого был он сам, придало ему несравненное ощущение превосходства и силы. Кроме того, в традициях его семьи было не улыбаться. Не было случая, когда бы Стейтс разделил овацию, вызванную своей шуткой, эпиграммой или остроумным ответом.
Оглядев стол, Марк Стейтс увидел, что Вениамин Бивис, этот несчастный с лицом ребенка, не смеялся, как остальные, и на мгновение почувствовал страстное негодование к тому, кто осмелился не выказать удовольствия от его шутки. Оскорбление усилилось еще более оттого, что Вениамин не представлял из себя ничего особенного. Не умел играть в футбол, еле-еле держал в руках крикетную биту. Единственное, в чем он был хорош, так это в работе. Работа! И этот оборвыш посмел сидеть с постным лицом, когда он… Но внезапно он вспомнил, что у бедняги умерла мать и, немного оттаяв сердцем, наградил его, находившегося на почтительном расстоянии, улыбкой с тенью признания и сочувствия. Энтони улыбнулся в ответ и сразу же отвел взгляд, покраснев от едва заметною смущения, будто его поймали на чем-то недозволенном. Сознание собственного великодушия по отношению к растерявшемуся Вениамину восстановило Стейтса в хорошем расположении духа.
— Агнесса! — крикнул он! — Агнесса!
Огромная, вечно сердитая служанка наконец появилась.
— Еще джема, пожалте.
— Джема еще, — пропищал Томпсон. Все снова засмеялись, не потому, что шутка оказалась удачной, а просто из-за того, что хотелось посмеяться.
— И хлэфа.
— Н-да, еще хлэфа.
— Агнесса, пожалте еще хлэфа.
— Да уж, тебе хлэфа, — с негодованием выговорила служанка, поднимая со стола пустое блюдо из-под бутербродов. — Почему ты не можешь сказать нормально?
Взрыв смеха прозвучал с удвоенной громкостью. Нет, они никак не могли сказать нормально, совершенно не могли, ибо в соответствии с традицией, которая существовала в Балстроуде, хлеб именовался хлэфом в знак спайки всех учеников, и это давало им превосходство над всем окружающим непосвященным миром.
— Еще, еще пепина хлэфа, — орал Стейтс.
— Хлэфовина-пепин, хлэфовина-пепин!
Смех дошел до стадии истерики. Все вспомнили случай, произошедший в прошлом семестре, когда они проходили Пепина ле Брефа по истории Европы. — Пепин ле Хлэф! Пепин ле Хлэф!
Первым взорвался Батерворт, затем Пембрук-Джонс, вслед за ними Томпсон и, наконец, все второе отделение, возглавляемое Стейтсом. Старик Джимбаг попался на самую страшную наживку, что, однако, выглядело еще смешнее.
— Шайка маленьких идиотов, — отрезала Агнесса и, увидев, что они все еще смеются, ушла на кухню и принесла оттуда еще один поднос хлеба. — Просто дети! — повторила она с явным намерением оскорбить их. Это тем не менее нисколько не покоробило ораву, вызвав нулевую реакцию. Дети не обращали на нее внимания, закатываясь как помешанные от беспричинного смеха.
Энтони посмеялся бы вместе с ними, но губы его были способны всего лишь на робкую улыбку, отчужденно вежливую, какой улыбается не владеющий языком иностранец, который не сумел уловить смысл шутки, но хочет выразить свое одобрение тем, кто желает повеселиться. Минуту спустя, почувствовав голод, он внезапно обнаружил, что его тарелка пуста. Просить еще хлеба, хотя бы ломтик, святому изгнаннику было бы бесчестным и наглым — бесчестным, потому что человеку, которого смерть матери сделала почти мучеником, определенно не подобало издеваться и говорить на жаргоне, а наглым, потому что чужак не имел права пользоваться языком, которым говорила элита. Он колебался в нерешительности и наконец вымолвил: