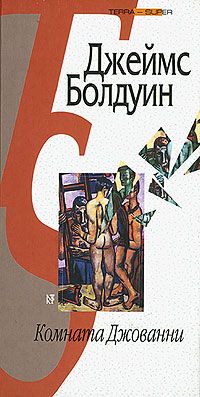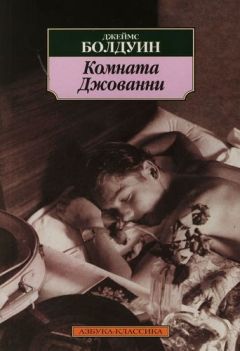За стойкой восседала дама – одно из тех абсолютно неповторимых созданий, полных неукротимой энергии, которые встречаются только в Париже, причем встречаются на каждом шагу – в другом городе их появление показалось бы крайне неуместным, как появление русалки на вершине горы. В Париже они повсеместно сидят за стойкой, точно птицы в гнездах, и высиживают свои доходы, как птицы высиживают яйца. Они видят все, что случается в их владениях, и удивиться могут разве что во сне. Впрочем, они давно уже не видят снов. Они не бывают ни злыми, ни добрыми, хотя у них есть свои привычки и повадки. Эти дамы знают все о каждом, кто появляется в их владениях. Некоторые из них – седые, другие нет, одни полные, другие – сухопарые, одни уже бабушки, другие – закоренелые старые девы, но у всех у них одинаково безучастный, но все примечающий взгляд. Просто не верится, что когда-то они сосали материнскую грудь или смотрели на солнце. Они, должно быть, пришли в этот мир исключительно для того, чтобы утолить свою жадность к деньгам, поэтому глаза у них бегают по сторонам, и успокаиваются они только, увидев кассу, полную денег.
У этой дамы волосы были черные с сединой, а лицо выдавало уроженку Англии. Она, как, впрочем, и все посетители бара, узнала Джованни и, судя по ее бурной реакции, явно симпатизировала ему. Она прижала Джованни к своей необъятной и пышной груди и проговорила грудным голосом:
– Ah, mon pote! Tu es revenu.[43] Наконец-то, объявился. Salaud.[44] Ты, видно, разбогател, нашел себе богатых друзей, к нам и не заглядываешь! Canaille.[45]
Ее сияющие глазки стрельнули в «богатых друзей», окатив нас притворно-непринужденным чарующим дружелюбием. Ей не надо было утруждать себя разгадкой каждого мгновения жизни любого из нас, начиная с рождения и кончая сегодняшним днем.
Она уже поняла, кто из нас богат и насколько богат, и сразу же смекнула, что у меня кошелек пуст. Вероятно, поэтому в брошенном на меня взгляде я прочитал мимолетное, правда, искусно замаскированное недоумение, которое тут же сменилось уверенностью, что сейчас она доберется до истины.
– Так уж выходит, – подавшись вперед и приглаживая волосы, сказал Джованни, – о развлечениях некогда думать, работа у меня серьезная.
– Tiens, – насмешливо воскликнула она, – sans blague?[46]
– Уверяю вас, – продолжал Джованни, – хоть я совсем еще молодой, а все равно очень устаю…
– И вы рано ложитесь спать? – Она снова расхохоталась.
– Притом один, – сказал Джованни так, словно этим объяснялось все, и она снова расхохоталась, сочувственно причмокнув.
– А сейчас вы с работы или на работу? – спросила она. – Вы пришли завтракать или опохмелиться? Nom de Dieu,[47] выглядите вы не очень серьезным. Уверена, что вы хотите выпить.
– Bien sur, – сказал кто-то в баре, – после трудового дня ему надо выпить бутылку белого вина и закусить несколькими дюжинами устриц.
Все расхохотались, каждый тайком рассматривал нас, и мне стало казаться, что я клоун из бродячего цирка. По-видимому, здесь все очень уважали Джованни. Тот немедленно откликнулся на предложение.
– Неплохая мысль, дружище, – заметил он, – как раз то, что надо.
Потом он повернулся к нам.
– Но вы еще не познакомились с моими друзьями, – сказал он, переводя взгляд с меня на женщину за стойкой.
– Это господин Гийом. – И сладеньким голоском добавил: – Мой patron. Спросите у него, серьезный я человек или нет?
– Но я не уверена, что он сам серьезный, – развязно сказала она и засмеялась, пытаясь смехом смягчить свою развязность.
Гийом, с трудом оторвав взгляд от молодых людей в баре, протянул руку и сказал улыбаясь:
– Вы не ошиблись, мадам, Джованни намного серьезнее меня. Боюсь, как бы через несколько лет он не стал владельцем моего бара.
«Он станет им, когда рак свистнет», – подумала она, но ее лицо выразило полный восторг по поводу сказанного, и она с воодушевлением пожала его руку.
– А это господин Жак, – сказал Джованни, – наш самый взыскательный посетитель.
– Enchanté, madame,[48] – сказал Жак, изобразив самую чарующую улыбку, на которую та ответила ее бездарным подобием.
– А это monsieur l'Américain, – сказал Джованни, – иначе его зовут monsieur David.[49] A это – мадам Клотильда.
Джованни отступил, в его глазах появился огонек, лицо вспыхнуло от радости и гордости.
– Je suis ravie, monsieur,[50] – сказала она, смерила меня взглядом, крепко пожала руку и улыбнулась.
Я тоже улыбнулся, сам не знаю, почему, я чувствовал себя крайне растерянным. Джованни как бы невзначай обнял меня за плечи.
– А что у вас хорошего можно поесть? – спросил он. – Мы проголодались.
– Сначала надо выпить, – вставил Жак.
– Тогда нам нужно сесть, – сказал Джованни.
– Нет, – протянул Гийом. Для него уйти из этого бара было равносильно изгнанию из земли обетованной.
– Давайте для начала выпьем здесь в баре с мадам Клотильдой.
Предложение Гийома возымело неожиданное действие: казалось, в бар ворвался ветер, и лампы загорелись ярче, и здешние посетители разом превратились в труппу актеров, которые собрались, чтобы разыграть хорошо им известную пьесу.
Мадам Клотильда, по обыкновению, немного поломалась, но скоро уступила нашим просьбам, сообразив, что пить мы будем что-нибудь приличное. Мы выбрали шампанское. Она пригубила бокал, произнесла несколько уклончивых фраз и в мгновение ока исчезла. Гийом даже еще не успел завязать знакомство ни с одним из мальчиков, которые потихоньку прихорашивались, прикидывали в уме, сколько денег нужно будет ему и его copain[51] на ближайшую неделю и умножали эту сумму на импозантность Гийома, высчитав, как долго можно будет из него выкачивать деньги. Не решили они только одного, как подобает держаться с ним: vache или chic,[52] но склонялись к мысли, что vache будет, пожалуй, более подходящим. Что касалось Жака, то он в их глазах был лакомым кусочком, что-то вроде утешительной премии на скачках. Со мной дело обстояло иначе: ни о какой квартире, мягкой постели или ужине не могло идти и речи, я был, так сказать, предметом их воздыханий, желанным, но недосягаемым, потому что считался môme[53] Джованни. И чтобы хоть как-то выразить свое расположение к нам, они хотели поскорее избавить нас от этих двух стариков. Поэтому пьеса игралась в презабавной заговорщической атмосфере, и их вполне эгоистичные устремления были завуалированы альтруистическим пылом.
Я заказал себе кофе и двойной коньяк. Джованни стоял в стороне от меня, потягивая marc[54] в обществе какого-то старика, казавшегося вместилищем моральных нечистот и пороков, и рыжего молодого человека, который когда-нибудь станет двойником этого старика; в печальных мальчишеских глазах не угадывалось и малейшей надежды на будущее. Лицо его отличалось грубой, какой-то лошадиной красотой. Он исподтишка наблюдал за Гийомом, зная, что тот вместе с Жаком тоже наблюдает за ним. Гийом пока что непринужденно болтал с мадам Клотильдой; они жаловались друг другу на плохую торговлю, на то, что из-за этих нуворишей обесценился франк, и в один голос твердили, что Франции нужен де Голль. К счастью, они уже не раз вели подобные беседы с другими людьми, так что этот разговор не требовал от них никакого умственного напряжения.
Жаку вдруг захотелось поиграть со мной в доброго дядюшку, хотя он мог спокойно предложить выпить любому из этих мальчиков.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил он. – У тебя сегодня такой знаменательный день.
– Отлично, – ответил я, – а ты?
– Я? Как человек, которому явилось прекрасное видение.
– Да? – сказал я. – Поделись со мной впечатлениями.
– Я вовсе не собираюсь шутить, – заметил он, – и говорю о тебе. Ты и есть то прекрасное видение. Если бы ты мог посмотреть на себя со стороны: ты сейчас совсем не такой, каким был вчера вечером.
Я молча посмотрел на него.
– Сколько тебе лет? Двадцать шесть или двадцать семь? Мне примерно вдвое больше и, смею тебя уверить, тебе сильно повезло, потому что это случилось с тобой сегодня, а не когда тебе стукнет сорок или около того, когда уже не растравляешь себя надеждой и ни к черту не годишься.
– Что же такое со мной случилось? – спросил я, стараясь придать голосу насмешливость, но вопреки моему желанию вопрос прозвучал слишком серьезно.
Он не ответил, вздохнул, бросив беглый взгляд на рыжеволосого мальчика, потом повернулся ко мне:
– Ты напишешь Хелле?
– Я пишу ей довольно часто, – заметил я, – думаю на днях отправить письмо.
– Ты уклонился от ответа.
– О, мне показалось, что ты спросил, буду ли я писать Хелле?
– Хорошо, задам вопрос иначе: ты напишешь ей о сегодняшней ночи?