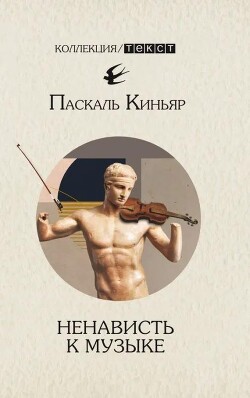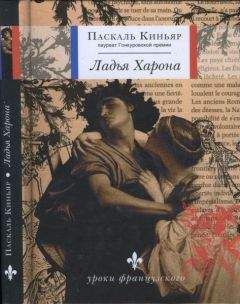*
Слезы святого Петра, как бы я ни силился сделать эту сцену более римской, мне удается представить только в барочном стиле, во временах Генриха IV или Людовика XIII. Это двор Луврского дворца серой слякотной зимой. Или залитый дождем двор в Руане. Или холодный, сырой двор Люневиля — места кончины Жоржа де Латура.
В 1624 году Жорж де Латур продал слезы святого Петра за 650 франков. Сегодня картина «Отречение и раскаяние святого Петра», датирующаяся 1624 годом, находится в музее Кливленда. Петух с круглым глазом месопотамских божеств и сухая виноградная лоза рядом с мучеником-апостолом являют собой весьма редкостные символы природы, которые Латур решился изобразить на холсте (не будем причислять к множеству изображений природы человеческие существа; к рубрике «натюрморты» относятся только поющие петухи и горящие виноградные лозы). В конце предыдущего века, в «Слезах святого Петра» Малерба [131], ночное слово было утрачено. Если стыд рождается вместе с ночным сумраком, который и есть любая заря, то безмолвие рождается с наступлением дня:
Когда разросся день, едва успев начаться,
Печален Петр, увы, не смогший отмолчаться,
Найти слова теперь — себя преодолеть,
Но он в глаза другим не может посмотреть,
А только изнутри его позор сжигает,
Постыдный жар без слов его сопровождает.
(Перевод А. В. Маркова)
*
Покинуть то, что покидает. Покинуть тех, кто покидает. Стыд стыдливый, стыд сумрачный; в страдании любви стыд, предшествующий объятию в ночи; стыд, предпочитающий тень и угрызения совести, реликвии, песнопения, слезы, креповую ткань, покрывало, черный цвет, — в старину все это называлось трауром. Французское слово «траур» (le deuil) происходит от латинского dolor — скорбь, боль. А латинское dolor идет от выражения «быть побитым». «Страдать мигренью» называлось у древних римлян сильным выражением caput mihi dolet (буквально: голова меня бьет). Это пульсация крови в сосудах головы, подобная темпу в музыке. Сильная пульсация близка к понятию le tarabust, она предвещает удушье.
Мигрень — это назойливое мысленное повторение какого-то выражения или воспоминания, подобное барабанной дроби, которое постепенно пресекает дыхание (psyché); в результате человек начинает задыхаться. Приходится искать имя жертвы, чья кожа натянулась на этот маленький психический барабан, чтобы ослабить напряжение внутри черепа. Ибо причина этой болезни — образно выражаясь, осадок в этой амфоре, — кашель, надрывающий горло и грозящий асфиксией. Это смерть, смерть без траура, зловещие ночные голоса смерти, беспощадные к людям. То, что возвращается в виде мигреней, возвращается еще и в виде кошмаров. Мертвые предают нас, уходя навечно, а мы непрестанно предаем мертвых, живя. Мы упрекаем мертвых не только в их смерти, но и просто в смерти, доказательством которой они являются, вызывая боль в сосудах, где кровь теперь бьется за двоих. Deus meus, Deus meus, ut quid dereliquisti me? (Боже мой, Боже мой, зачем ты меня покинул?) Даже боги извергают этот крик, обращаясь к смерти. Слово dereliction (расставание, уход) означает «вопль, скорбь по умершим». И этот вопль куда более стар, нежели тот, что прозвучал в первом веке нашей эры, более стар, чем пятница, седьмой день месяца апреля 30 года. Таков он — этот крик, что издает святой Петр после того, как он выдал Иисуса и осознал свое отступничество в подворотне тестя Каиафы в Иерусалиме.
Он вдруг осознаёт, что покинул того, кто его покинул. Песня птичьего двора, песня раннего детства, песня, которая приходит из дали, более дальней, чем знание того, что обрекает на смерть, — чем владение речью; старинная, древняя песнь, ставшая расстоянием во времени, отмеченным хриплым петушиным криком; заря, таящаяся в горле петуха, который и сам, как ни странно, стал анахронизмом:
«…Нахал, крикун, теперь лишь будто с бою;
Весь в перьях; у него косматый крюком хвост,
Над самым лбом дрожит нарост
Какой-то огненного цвета,
И будто две руки, служащи для полета.» [132]
Вот он — этот звук, от которого Симон вздрагивает под гнетом камня своего второго имени; он дрожит и рыдает под каменным сводом подворотни. Он отрекся не только от Бога: он отрекся и от самого себя, покинул самого себя, покинув рыболовные сети Капернаума, покинув лодку на берегах Иордана; это разом и ужас (horror), и сам daimôri [133], ему приданный, от которого он отрекся некогда, — теперь они оба содрогаются одновременно.
Это он сам отрекся от себя, отрекшись от своего имени.
Так странно прозвучало пение петуха в ушах Петра — именно к этому «камню» приговорил его Господь, именно этот прерывистый, но бесконечный звук навсегда привязал его к времени, предшествующему лингвистическим навыкам человечества, к порогу музыки, которая после случившегося принимает форму слёз: ко времени, когда звуки были чистыми страстями — трагическими, ранящими, пугающими, приводящими в ужас страстями. Звуковыми зорями, а не лингвистическими знаками. Первичный пафос возвращается в звучащую ночь, напряженный слух ловит звуки в этой звучащей ночи, в звучащем лесу, в ночной пещере, где люди передвигались с факелами и масляными светильниками во время инициации, во время смерти и возрождения в сумрачном чреве земли. Это terror, родившийся еще до тела, внезапно повергнутого в ритмы и вопли между раздвинутыми ногами матери, между берегами ляжек, в куче нечистот, в озере мочи, в воздухе, где задыхаются эти подобия рыб, — в чем-то похожем на звуковой Капернаум, который длится, не умолкая, до тех пор, пока последний стон не растворится в выдохе смерти. Крик петуха — это нечто вроде загадочного сигнала на чужом языке, таком же пугающе непривычном для Петра, как его новое имя.
*
Любопытный парадокс: музыка защищает от звуков. Первые музыкальные произведения так называемой барочной музыки были проникнуты стремлением устраниться от назойливости звука, начиная с модуляции, свойственной человеческой речи и системе ее affetti [134]. Изобретение оперы явилось результатом этого стремления к чувственному возрождению, мутации (преобразованию) звуковой выборки, звукового жертвоприношения. Я считаю диатоническую, говорящую с нами на высоких тонах гамму, существовавшую в Европе с начала XVII века до первой половины XVIII века, одной из самых прекрасных вещей на свете, даром что ей выпало так мало времени. Это была абсолютная, безупречная красота, настолько хрупкая, что она очень скоро потеряла шанс на существование в будущем. Я ставлю ее в один ряд с римской satura [135] — изобретением исторического жанра в Греции и Риме, с красным вином из окрестностей Бордо и филе жареного солнечника [136], с буржуазным индивидуализмом и трагедиями Вильяма Шекспира.
*
Рассказывают, что святой Петр в старости не переносил петухов. Не терпел он также ручных и диких дроздов, куропаток, голубей и уток-мандаринок — словом, тех птиц, которые не боялись людей и могли петь во дворе его базилики в Риме; всех их он обрекал на смерть. Гней Маммий рассказывает, что он приказывал Фусции Кереллии [137] душить их, завернув в тряпку, окрашенную соком черники (yaccinia). Это было до того, как его заключили в Мамертинскую тюрьму [138], то есть еще до того, как Нерон принудил Сенеку-Младшего к самоубийству. Святой Петр (Simo Petrus) жил тогда в Риме, в обширном, но довольно ветхом дворце, купленном в начале 60-х годов. Он уже начинал пользоваться известностью. Симон-Петр (Simo Petrus) ужинал с Лукианом, с Сенекой, с молодым испанцем Марциалом. Видели его также в гостях у Квинтилиана, у Валерия Флакка, у Плиния. Гней Маммий рассказывал, что в последние годы жизни он не переносил даже играющих детей и церковные песнопения. Однажды он приказал отхлестать кнутом и выгнать группу пожилых патрицианок, которые только что перешли в христианство, лишь за то, что они стояли и болтали во дворе, испуская громкие пронзительные возгласы. А дворец был погружен в тишину, и окна наглухо занавешены. На внутренних дверях его покоев висело на горизонтальных балках множество галльских плащей, сшитых вместе, дабы приглушать звуки. Фусция Кереллия вывязывала из шерсти маленькие затычки, которые днем и ночью свисали из ушей святого Петра.