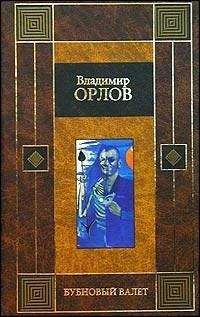Ознакомительная версия.
А вот маэстро Бодолин меня удивил. Жил он по-прежнему на Немировича-Данченко, в артистическом доме, а потому мы часто попивали с ним пиво в Столешниковом, в Яме. “Я онароднился, – объяснил Бодолин. – Потому и пью пиво”. Но к пиву он добавлял и водку. Он по-прежнему был красив, прекрасно одевался, но сильно хромал. То ли он попал под машину, то ли ему сломали ногу в случайной драке, он не объявлял. Но увечье дало ему право получить инвалидность второй группы, а вместе с ней и пенсию. В штате Бодолин не работал. Так, где-то пописывал. Что-то поделывал на студии научных фильмов. “Меня коммуняки отовсюду из хороших мест повыгоняли, завидовали и боялись…” На замечания, что теперь вроде бы и коммуняков нет, Бодолин отвечал, глядя на нас как на людей слабых рассудком, что и теперь коммуняки во всех обтянутых кожей креслах. Выяснилось, что у Бодолина множество вгиковских приятелей и в особенности приятельниц. Эти обожавшие его в студенчестве дамы старались Диму благоустроить. Или хотя бы обеспечить его работой. Одна из них накрыла его норковой шубой со своего плеча: выбила ему контракт на сценарий телевизионного фильма об эсеровском восстании восемнадцатого года, вот уж где Дима мог разойтись и выдать коммунякам. Дима контракт подписал, аванс принял, ходил в историческую библиотеку и ни строчки не вывел на бумаге. “Вовсе не коммуняки его изнурили, – сказал как-то в Яме Димин однокурсник, – а именно дамы”. Марьин, стараясь подобрать слова поделикатнее, поинтересовался у Димы, где же его роман, складываемый в стол еще в газете (“Нетленка! Роман века!” – восклицания посвященной Ланы Чупихиной), ведь сейчас для публикации его нет препон и рогаток. Ответ Димы был страстен и громок, способен обрушить своды пивного заведения: “Я его сжег! Я не вижу ни вблизи себя, ни в отдалении ни одного конгениального читателя!” Позже выяснилось, что в последние годы Бодолин вообще ничего не пописывал и не поделывал, а жил на манер рантье. Они с матерью переехали к дальней родственнице, что-то ей платили, квартиру же в доме у Тверской сдавали иностранцам. Сначала за двести долларов (в месяц). Потом, в связи с движением народа к совершенству, за четыреста. Ходить у Бодолина в присутствия не было нужды, сюда, в Яму, дамы заглядывали исключительные, маэстро стал небрежничать, одеваться дурно, бриться через неделю, и начали с ним случаться запои. Иногда он исчезал, говорили – в больнице. Однажды он явился возбужденный, сказал, что у него брали телевизионное интервью, он толком не помнит о чем, через неделю покажут. И показали. Интервью шло полчаса и называлось “Мой приятель – стукач”. Публика в Яме, мужском перекрестке Москвы, бывала разнообразная: и простые обыватели, и личности знаменитые, и бандиты, и лохи, и лохотронщики всех мастей и уровней, уличных и думских, но как в бане – все одноправные. Диме Бодолину, герою интервью, руки никто протягивать не стал, лишь один дурачок гоготнул: “А ты, Дима, оказывается, стукач!” Бодолин стал возмущаться. Его однокурсник, известный режиссер-документалист Геннадий Трубников уговорил дать интервью, явился с группой, выставил три бутылки водки, сам выпил и Диму разболтал. Растетешил. “Сволочь! Другом его считал! – кричал Бодолин. – Раздавлю! В суд подам! Завтра же! Раздавлю! Показывать запрещу!” Но в газетах, и многих, появились хвалебные рецензии (“жестокая правда жизни”, “исповедь трагического осведомителя”), передачу дали еще дважды. И Бодолин вдруг ощутил себя именно трагическим героем, вокруг него вились хлопотуны, его водили на какие-то встречи, где ему даже деньги платили за самобичевания. “Дима, угомонись, – говорил ему я, выслушав в Яме новую версию его мытарств. – Ты смотрел “Праздник святого Йоргена”? Смотрел…
И помнишь: герой Ильинского рассказывал, как бедная мама уронила его с третьего этажа, потом с четвертого, с какого он еще падал? Тебя сегодня роняют уже с восемьдесят восьмого этажа”. Угомониться Дима не мог, и если его неделю с брезгливостью попрезирали, то вскоре снова стали жалеть, поили, слезы ему утирали шарфом и сажали в такси с оплаченным водителем. Иногда он сам – бывший ухарь-купец – швырял на стол десятку и требовал – напоить всех! В те дни кружку пива, стоившую некогда двадцать копеек, можно было наполнить, лишь опустив в пасть безрукого тридцать девять двугривенников. Диме объясняли, что на его десятку и двух вшей не напоишь. Бодолин обижался, гордо вскидывал голову трагика и заявлял, что конгениальные читатели его еще не родились. А потом он пропал и вовсе. Полгода спустя стало известно, что они с матерью согласились сдать квартиру теперь уже государству, а сами живут в Доме ветеранов сцены где-то под Химками.
Но прежде чем маэстро Бодолину пропасть, в Яме с его участием произошел эпизод для меня совершенно неожиданный. А многие в него и не поверили.
День был летний, суббота. Я отзаседался в приемной комиссии и полпервого заскочил в Столешников выпить пару кружек. Яма, она же “Ладья”, была инфернально пуста. Один лишь маэстро Бодолин явно в женской кофте стоял у ближнего к входу стола. В автомат надо было опускать уже пятьдесят семь двугривенников, и автоматы с удовольствием отменили. Пиво в кружки движением крана наливал добродушно-громоздкий бывший наладчик автоматов Слава, также и бывший авиамеханик. С пивом я двинулся к Бодолину. Тот не стоял, а держался, локти и подбородок его принадлежали столу. Как только я глотком втянул в себя полкружки (“премерзкого”, сказал бы Крижанич), в Яму-“Ладью” вошел Глеб Аскольдович Ахметьев. На нас с Бодолиным он не взглянул, а сразу направился к оконцу раздачи. Рука моя с кружкой ни малейшего движения не могла произвести, я хотел было Ахметьева окликнуть, но сообразил, что мог перегреться в духоте приемной комиссии, а Яму посещал призрак и он не обязательно должен был реагировать на всякие выкрики. Впрочем, итоговое желание Ахметьева, мне высказанное, было воплотиться в Призрак, себя осознающий, размерами с Шуховскую башню. Вошедший же в Яму мужчина был ростом метр семьдесят. Я попытался растолкать Бодолина, ища в нем себе подмогу, но маэстро лишь застонал. Однако без всяких моих окриков вновь вошедший с кружкой пива направился к нашему столу.
– Замечательно! Это просто замечательно! – заговорил он. – Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, я ищу встречи с тобой, Куделин, а тебя нет. Давай поздороваемся.
Он протянул мне руку, она оказалась живой и крепкой. Но отчего ей быть не живой и не крепкой?
– Бодолин, – я принялся расталкивать Диму. – Видишь, кто перед нами?
Подбородок Бодолина чуть-чуть возвысился над плоскостью стола, правый глаз его приоткрылся.
– Вижу, – сказал Бодолин. – Ахметьев. Историческое недоразумение. Но он помер. Почил в бозе. Упокоился тихим образом… – И веки правого глаза Бодолина склеились.
– Да! Замечательно! – рассмеялся Ахметьев. – Помер, упокоился, но живой.
– А Белокуров утверждает, что хоронил тебя…
– Белокуров похоронил меня четверть века назад. Тогда же и я похоронил его. Я бы хотел пообщаться с тобой. Именно с тобой, Куделин, но у меня сейчас мало времени.
– Вот моя визитка. У меня можешь и остановиться, коли снова прибудешь в Москву.
Ахметьев быстро взглянул на визитку, сунул ее в карман брюк.
– Спасибо. Ничего неожиданного в твоей визитке для меня нет. Куда я спешу? Во ВТЭК. На Грановского. Подтвердить инвалидность и право на пенсию. Я ведь болею… – и Ахметьев заулыбался.
Тут я сообразил, что Глеб Аскольдович почти не изменился – худенький, изящный, аристократ, тройка в жару, уголок платка из кармана пиджака, на обуви ни царапинки, ни пылинки. Вот только залысины стали заметнее.
– Это Бодолин, – сказал я, ничего умнее не придумав для продолжения разговора. – Он работал с нами в газете.
– Как же, как же! – обрадовался Ахметьев. – Маэстро Бодолин.
– Дима, – открыл правый глаз Бодолин. – Дмитрий Бодолин. Тот самый. Знаменитый. Мой приятель – стукач. То есть не мой приятель стукач. А я – стукач. Дмитрий Бодолин – стукач. – И Дима зарыдал. Но через минуту и заснул.
– Я знаю, я знаю, – Ахметьев принялся успокаивать еще не успевшего заснуть Диму. – Я три раза видел. И не надо рыдать. Тебя вынудили. Ты перестрадал. Ты покаялся. И будь теперь спокоен душой. Ты и не стукач. А так, осведомитель…
– Глеб Аскольдович, – я снова подыскивал слова для продолжения разговора. – Как называют эти самые грановские врачи повод для вашей пенсии?
– Василий Николаевич, – будто бы опечалился Ахметьев, – ты же начитанный человек. Ты же Крижанича раскопал для себя, натуру с неисполнимой идеей, он язык для нее всеславянский изобрел, а от католичества отказаться не смог. И осталась от него одна буква “э”. И то не он ее сотворил.
– При чем тут Крижанич! – обиделся я. – У всех есть невыполнимые расчеты и упования…
– У всех, но не у меня, – резко сказал Глеб Аскольдович. – А ты был в Тобольске, куда судьба завозила и Федора Михайловича. Недуг мой, пенсию приносящий, называется: болезнь Карамазова.
Ознакомительная версия.