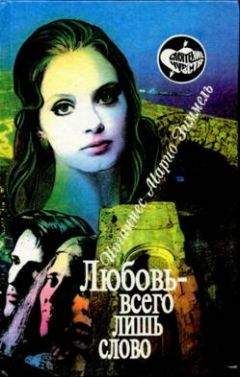— Ты — Эвелин, не так ли? — спросил Лазарус.
— Да, сударь.
— Ты знаешь, кто мы такие?
— Догадываюсь. Наверно, из полиции?
— А почему ты так решила?
— Из-за дяди Мансфельда.
— А что с дядей Мансфельдом?
— Вы же сами знаете.
— Ты его любила?
Маленькая девочка тихо ответила:
— Да. Я очень, очень горюю из-за того, что он умер.
В этом доме она оказалась единственным человеком, у которого нашлись слова скорби по Оливеру Мансфельду.
В течение первой половины дня ассистент уголовной полиции Маркус допрашивал слугу Лео и садовника с женой. Показания всех трех сходились: седьмого января после обеда Манфред Лорд на какое-то время покинул свою виллу, а затем, не позже, чем за час до начала снегопада, вернулся назад — приблизительно полчаса спустя после возвращения его жены.
У садовника с женой, лакея Лео, Манфреда Лорда, Верены Лорд и ее дочери Маркус снял отпечатки пальцев. Несколько часов спустя он доложил своему шефу:
— Отпечатки пальцев в машине принадлежат госпоже Лорд и малышке, господин комиссар. Отпечатков господина Лорда я не обнаружил.
— А другие отпечатки?
— Различных людей. Вероятно, служащих фирмы «Коппер и Кє». По радио я распорядился проверить их всех. Но не ожидаю ничего сенсационного.
— А что предполагаешь лично ты, Маркус?
— Что парень повесился сам. Сейчас профессор Мокри обследует его еще раз. Полагаю, что Оливер Мансфельд был избит, затем пошел и сел в свою машину, чтобы куда-то ехать, а потом в состоянии аффекта вернулся назад и повесился.
— А что с газетой, которую мы нашли в башне?
— Это тоже, должно быть, связано с состоянием аффекта.
— То есть как это?
— Здесь недалеко есть дом отдыха, принадлежащий какой-то секте. Утром я послал туда Вальнера. Он переговорил с некой сестрой Клавдией. Она знает Оливера Мансфельда и рассказала, что тот часто бывал у них как один, так и с госпожой Лорд. Парень часто брал у них газеты, которые там раздавались. «Вестник царства справедливости». — Маркус засмеялся. — В выходных данных значится: «Издатель: Ангел Господний, Франкфурт-на-Майне».
— Не смейся!
— Я смеюсь только тому, что Ангел Господний избрал местом своего издательства именно Франкфурт-на-Майне. Связавшись по радио, мы установили, что какая-то газета — «Коппер и Кє», конечно, не могут сказать, какая именно — лежала в бардачке «ягуара», который так долго стоял у них. По всей видимости, когда парень залез в свою машину, он достал газету и взял ее с собой в башню.
— Зачем?
— Действия отчаявшихся людей не поддаются рациональному и логическому истолкованию. Возможно, это было…
Лазарус, до этого момента молча слушавший разговор, вспыхнул.
— Это было что?
— Своего рода опора, последнее утешение… Откуда мне знать, господа?
Главный комиссар Харденберг взял газету, найденную в башне и лежавшую теперь перед ним в бильярдной комнате гостиницы «Амбассадор». Он задумчиво разглядел ее. Она была грязной, мокрой и старой. На первой странице была помещена статья под заголовком: «Вера, любовь, надежда — Троица. Но самое великое из них — Любовь».
— Пожалуй, что вы правы, — сказал Харденберг.
— Жандармерия сообщила, что с завтрашнего утра снова начинается регулярное движение поездов. Можно положить труп в гроб?
— Да, — сказал Харденберг, вдруг ощущая, как на него наваливается чудовищная усталость, — положите его в гроб, но не пломбируйте. Из-за таможни.
В бильярдную вошел ассистент уголовной полиции Вальнер.
— Господин главный комиссар, вас вызывает Франкфурт.
— Что еще такое?
— Вас просит какая-то девушка.
— Что еще за девушка?
— Ее зовут Геральдина Ребер или что-то в этом роде.
Харденберг и Лазарус переглянулись.
— Откуда она звонит?
— Из управления от комиссара Вильмса.
— Где у вас рация?
— На чердаке, господин главный комиссар.
Они поднялись на просторный чердак гостиницы. Здесь стояла выкрашенная оливково-зеленой краской коротковолновая рация. Харденберг взял трубку и назвал себя.
— Говорит Вильмс, — сказал металлически звучащий голос. — Как дела?
— Самоубийство. За всем этим кроется колоссальное подонство, но нам его никогда не доказать.
— Да, такое у нас бывает нередко.
— Думаю, что завтра мы вернемся вместе с трупом.
Лазарус остался стоять около дверей. Он глотал таблетки и кашлял.
— Чего нужно этой Геральдине Ребер? — спросил главный комиссар.
— Она говорит, что хочет дать показание.
— Ну, так пусть и дает.
— Она хочет переговорить лично с вами.
— Ладно, давайте ее.
— Одну секунду. — Было слышно, как Вильмс говорит: — Возьмите трубку. Когда будете говорить, нажмите эту кнопку. Когда станете слушать, кнопку отпустите.
— Понятно, — сказал далекий девичий голос. Потом он стал громче: — Господин главный комиссар Харденберг?
— Да.
— Я прочла, что Оливер Мансфельд мертв.
В трубке трещало и шуршало, и сквозь чердачное окно Харденберг видел, что снег по-прежнему все валит и валит.
— Я приехала во Франкфурт, чтобы дать показания.
— Что за показания? По делу Мансфельда?
— Нет.
— Какие же тогда?
— По поводу доктора Хаберле.
— Доктор Хаберле?
— Вы его не знаете. Он был учителем в интернате. Его уволили, потому что я заявила, будто он меня изнасиловал. Он остался без работы. Дела у него — хуже не придумаешь. Его жена и дети пока еще живут во Фридхайме. Они собираются продать дом. Но пока еще есть время.
— Время для чего? — спросил комиссар, подумав при этом о том, что очень быстро потемнело.
— Чтобы все исправить.
— Не понимаю.
— Я солгала. Доктор Хаберле не пытался меня изнасиловать. Я… я…
— Что — вы? Говорите яснее.
— Я перед ним наполовину разделась. Я его целовала. Я возбудила его… Мы были одни. Он оставил меня после уроков. Я очень плохо училась и не хотела провалиться. Я подумала, если я…
— Все ясно.
— Да? Вы все поняли?
— Полагаю, да. Запротоколируйте ваше показание.
— Как вы думаете… Вы думаете, доктора Хаберле реабилитируют?
— Думаю, что да.
— А… а Оливера нет.
— Да.
— Я его очень любила.
— Этим его не вернешь.
— Конечно, нет. Но я… я думала, что…
— Что вы думали, фройляйн Ребер?
— Что я могу хоть что-то исправить, если явлюсь в полицию и скажу правду об этом случае. Может, все это детство, скорее всего это глупо…
— Фройляйн Ребер, — сказал главный комиссар Харденберг, — я благодарю вас. Вы порядочный человек.
— Нет, — сказал металлический голос из телефонной трубки, — я непорядочный, плохой, опустившийся человек. Но…
— Что — но?
— Но я любила Оливера. Понимаете? Любила!
— Да, да, — сказал Харденберг.
— Он… можно в последний раз посмотреть на него?
— Боюсь, что нельзя.
— Он сам покончил с собой?
— Да.
— Из-за… из-за этой женщины?
— Думаю, что да, — ответил Харденберг.
Потом он еще коротко переговорил с комиссаром Вильмсом и дал разные указания. Когда он повернулся, чтобы уйти, то увидел, что Лазарус стоит с закрытыми глазами, привалившись к стене.
— Эй!
Редактор открыл глаза.
— Да?
— Что с вами?
— Мне плохо.
— И мне, — сказал Харденберг. — Пошли вниз. И вы тоже, Маркус. Надо выпить.
В ночь на 11 января 1962 года катастрофический снегопад закончился. Управление железными дорогами сдержало свое слово: утром ветка местного сообщения Фридхайм — Франкфурт была открыта для движения.
В 9 часов 35 минут в багажный вагон поезда был погружен цинковый гроб с трупом Оливера Мансфельда. Судебно-медицинский эксперт доктор Петер и профессор судебной медицины Мокри, выкурив на платформе по сигаре, направились в вагон первого класса. Харденберг и Лазарус стояли на безлюдном перроне.
Незадолго до отхода поезда появился Рашид. Он вел за собой за руку даму, лицо которой было скрыто вуалью. Это была Верена Лорд.
Она выглядела лет на пятьдесят.
— Мы пришли, чтобы попрощаться с вами, джентльмены, — сказал маленький принц.
— Что вы теперь собираетесь делать? — спросил комиссар Верену.
Та пожала плечами и отвернулась.
— Мы оба еще не знаем этого, — ответил маленький принц. — Но милостивая государыня сказала, что будет теперь моей сестрой. Так что все не так уж плохо, сэр.
Верена уставилась на багажный вагон.
— Он там?
— Да.
— Вы меня презираете?
— Нет, — сказал Лазарус.
— А вы?
— Я вас не презираю, — ответил комиссар. — В данных обстоятельствах вы не могли поступить иначе. Для этого требовалось очень большое мужество.