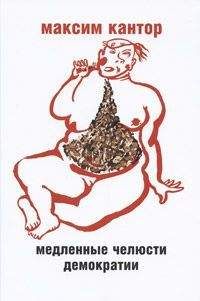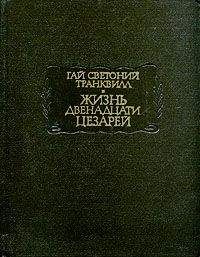В те первые годы, в годы пионерства и бурных деклараций — главным было соревнование за наиновейшее, наипередовейшее чувство современности. И ради актуальности жертвовали всем — в том числе былыми единомышленниками. Акмеистов ненавидели за неактуальную образованность и барство, имажинистов снисходительно презирали за патриархальность, символистов почитали за стариков, футуристов бранили за пролетарские вкусы, и так далее. Интрига борьбы состояла в том, чтобы выделить из общего варева искусства фермент авангарда, определить химический состав нового, найти рецепт волшебного порошка, цемента будущего. Буквально то же самое происходило недавно, в пост-советской России: освобожденные обитатели Парнаса первым делом заинтересовались вопросом: а насколько они отстали от современности, что сейчас носят? Но в превосходной степени эта гонка за новым была устроена в десятые годы: скорее, скорее, еще скорее! Характерно то, что члены противных кружков постоянно устраивали судилища друг другу и создавали рейтинги популярности. Не пропустить в будущее посторонних, не прошляпить очередь в актуальное! Так, было постановлено, что Мандельштам является устаревшим, и Осип Эмильевич мучительно это обвинение переживал. Так, с формулировкой, что методы Шагала «устарели», Малевич отстранил Шагала от директорства в Витебской школе искусств (куда сам Шагал его и пригласил). Хронос не знает пощады — бог современности самый безжалостный из богов.
Деление на конструктивистов, футуристов и абстракционистов не слишком помогает понять то время. Крученых — футурист, и Маяковский — футурист, но наивно было бы их сравнивать. Родченко — конструктивист, и Татлин — конструктивист. Никакой ясности не наступает. Чтобы внести логику в дефиниции — а восприятие тех лет определило наше сегодняшнее отношение к термину «авангард» — требуется применить простое, совсем не стилистическое деление.
Классификация, которую я предлагаю ниже, основана на следующем наблюдении. Трудно соединить в воображении разных мастеров той эпохи (Мандельштама — и Малевича, Цветаеву — и Родченко, Петрова-Водкина — и Хлебникова, Есенина — и Попову), если не поместить между ними фигуры, представляющей обе стороны разом. Как только такая фигура появляется (скажем, Маяковский), то пропасть между Малевичем и Мандельштамом оказывается заполненной, и можно даже вообразить, что эти люди жили в одном городе. Маяковский, крикливый и угловатый, как Малевич, и одновременно одинокий и ранимый, как Мандельштам — если не устраняет противоречие, то прокладывает мост от берега к берегу. Если бы такого моста между традицией и экспериментом не было, то и разговора о едином поколении не возникло бы. Тогда Малевич и Мандельштам воспринимались бы как люди разных эпох, как существа с разных планет. Роль такого моста в культуре играет утопия.
Сегодня часто можно видеть слово «Утопия» в заглавиях книг, посвященных авангарду. И, как правило, используется это слово не по назначению. Держишь в руках книгу, на ней крупными буквами написано «Великая утопия», внутри репродукции картин, изображающих квадратики и полоски, смотришь — и недоумеваешь: утопия-то, простите, где? В чем она? Вглядываешься в квадраты, тщишься разглядеть утопический проект бытия — но его там нет: слишком мало рассказывают нам геометрические фигуры, чтобы можно было полноправно использовать слово «утопия». В самом деле, ну не Платон же тот, кто изобразил прямоугольник и полоску, — этого, право, недостаточно для того, чтобы стать Платоном. Существует, помимо утопии, жанр «антиутопии» — но и этот жанр требует подробного изложения проекта, полосками тут не отделаешься. Утопия, по определению, это такое идеальное, воображаемое общество, в котором досконально придумано все — и отношения правительства и народа, и общение мужчин и женщин, и роль науки, и устройство дома, и воспитание детей, и общественное благо, и армия, и сущность любви. В этом смысле ни Малевич, ни Родченко, ни Розанова утопистами не были — никаких соображений по поводу любви, детей, власти, воспитания и чести у этих мастеров не было. Они были строители — но не мечтатели, они делали нечто конкретное, а вовсе не фантазировали. Они изображали некий знак на рукаве современности, делали нарукавную повязку веку, может быть, произносили директиву, но ни знака, ни директивы не достаточно, чтобы именоваться утопистом. Эти мастера были практиками, а если и пускались в теоретические рассуждения, то не потому, что создавали проект будущего — но потому, что полномочно его представляли и говорили от его имени. Они не предсказывали будущее, они уже сегодня были людьми будущего. Они были строителями нового быта и сознания, они фактически были новыми реалистами. Внутри новой реальности (а вольно было какому-нибудь Маяковскому воспринимать эту реальность лишь как врата грядущей утопии) они работали, так же предметно, как работает пейзажист на пленере. Наборы квадратиков и закорючек — с какой точки зрения их можно именовать утопией? Нет, это самый настоящий реализм. Иногда говорилось, что геометрические холсты — это чертежи будущих городов, архитектоны будущих миров. Если так, то это всего-навсего рабочий чертеж — не называем же мы утопистом архитектора, который вычертил эскиз коровника. Малевич рисовал планы постройки казарм, но план казармы не является утопией ни в коем случае. Утопией была теория мировой революции — но революционная практика исправительных учреждений утопией не была. Утопистом был Маркс — никак не Ленин, совсем не Сталин. И Сталин, и Ленин были реалистами, в этом их сила.
Утопии создали Платон, Мор, Кампанелла, Сирано де Бержерак, Маркс, Маяковский, Федоров, Татлин. Эти мыслители создали самостоятельные проекты грядущих миров, устроенных сообразно законам счастья — убедительно получилось у них или нет, иной вопрос. Революция в России, несомненно, делалась по утопическому проекту Маркса, но проект обратился в реальность незамедлительно. Но Казимир Малевич или Любовь Попова никаких утопий не создавали никогда, они принимали участие в построении реального государства, они были строителями, а не мечтателями. Более того, они сами это неоднократно говорили, настаивали на предметности своих дерзаний. Малевич отнюдь не мечтал о том, чтобы люди стали свободными как птицы и летали (мечта Татлина), он не хотел, чтобы закон любви был принят правительствами всего мира в качестве конституции, а самому стать «заводом, вырабатывающим счастье» (Маяковский). Совсем даже нет. Он хотел простых, земных вещей: запрещать, велеть, разрешать, отменять. То есть, он хотел того же самого, чего хотели и что делали другие советские чиновники. Вопиющее недоразумение приписывать авангарду утопизм. Полоски и квадратики утопиями не являются, это ошибка.
И стоит лишь понять, что квадраты есть не утопия, но крепкий социальный реализм, как значение Малевича вырастет неимоверно. Перед нами не страдалец за небесную геометрию, но суровый воин земного прогресса и конкретной цивилизации, этакий Франко изобразительного искусства. Кто и каким образом сделал Малевича — метафизиком? Человек, последовательно и сурово отменяющий Бога и икону, любовь и сострадание — как, почему, с какой стати он может именоваться метафизиком?
Есенин и Малевич никогда не могут соединиться, поскольку и тот и другой — реалисты, их миры — реальные миры, отнюдь не проекты. Эти миры никак не согласованны меж собой, они враждебны: деревня Есенина — реальность, и казарменный приказ Малевича — тоже сугубая реальность. Казармы нового быта (или лагеря) действительно существовали, и патриархальная деревня действительно была. Примирить эти реальности нельзя. Петров-Водкин — реалист. Но и Родченко тоже реалист. Только реальности они представляют разные — им никогда не договориться. Но если выделить в русской культуре тех лет действительных утопистов, авторов несбывшихся проектов, пророков и мечтателей, и поместить этих пророков между представителями двух типов реальности — это упорядочит ситуацию.
Утопистами были Маяковский, Татлин, Платонов, Шостакович, Чекрыгин, Филонов.
Их утопичность была тем беззащитнее, что находилась как бы между двух реальностей, сжимавших утопию. Их утопичность была тем бессмысленнее, что гуманизм, предложенный утопией как программа будущего, очевидным образом не подходил новой реальности, он был смешон и обречен на уничтожение.
В одном рассказе Честертона («Злой рок семьи Дарнуэй»), патер Браун находит потайную дверь в библиотеке, когда видит полку с такими книгами, которых в принципе не может существовать. Он видит корешки книг с названиями «Змеи Исландии», «Религия Фридриха Великого» — и понимает, что коль скоро Фридрих не создал никакой религии, а в Исландии нет змей, то и таких книг быть не может. А раз не может быть таких книг, то и полка с такими книгами имеет некое иное значение — не для чтения же эти книги предназначены. Он толкает полку и находит секретный ход.