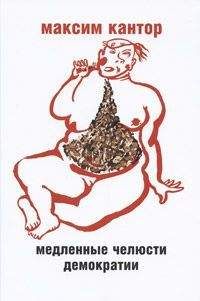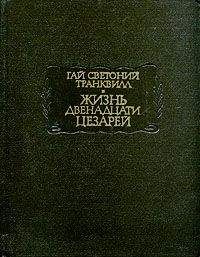Надо сказать, что многие авангардисты охотно согласились: Родченко, например, создал такие фотографии физкультурных парадов, которые не уступают аналогичным произведениям Лени Рифеншталь; Филонов написал верноподданный портрет Сталина, а Рождественский (ученик Малевича) изображал социалистические стройки. Я думаю, что колхозники Малевича были шагом в том же направлении, и не умри мастер в тридцать пятом году, мы получили бы певца режима, не уступающего Беккеру и Дейнеке. Стоит лишь задать элементарный вопрос: как может любитель квадратов и геометрии протестовать против колхозов? Как очевидный сторонник схем и регламентов может бороться против схемы? — и подозрение в критике коллективизации уходит само собой. Тот, кто нарисовал черный квадрат, противником коллективизации быть не может, и, соответственно, власти его упрекать не в чем. Лиц у крестьян он не рисовал только лишь потому, что в принципе не мог, не умел нарисовать лица — и ни почему более. Есть нечто знаменательное в том, что пострадали именно те, кто занимался так называемым традиционным искусством, те, кто рисовал лица: власть принять формализм не могла только потому, что идеология пошла дальше, но вот принять гуманизм власть не могла по определению. Отчего же мастера квадратиков так тянутся к художникам старого образца, к так называемым «гуманистам», зачем в истории искусств надо их заново знакомить и заставлять дружить? Зачем это родство? В реальности такое родство вряд ли возможно.
Однажды, на подпольной выставке московских авангардистов в восьмидесятых годах, произошел любопытный казус. Свободомыслящие художники показали московской толпе свои опусы — то был уже так называемый «второй авангард», если использовать сегодняшнюю этикетку. Еще не упал железный занавес, но в предчувствии перемен уже распрямились согбенные выи, мастера-формалисты, продолжатели дела Малевича, кинулись со своими полотнами в галереи. После закрытия выставки стали придирчиво читать книгу отзывов: кто был, что написал. В числе прочих надписей увидели одну, подписанную неразборчивой закорючкой, которую расшифровали как росчерк Сергея Аверинцева. Нонконформисты возбудились. Что могло роднить певцов спонтанных загогулин и протестной пластики какашек — с византинистом, христианским ученым Аверинцевым? Да и на кой ляд им было его признание? Но художники пришли в неистовство, разыскали телефон Сергея Сергеевича, позвонили ученому, представились. Мол, знаем, что вы нас навестили, приятно стоять плечом к плечу на баррикадах разума и свободы. Сергей Сергеевич удивился: он не только не был на выставке, но и не подозревал о новых веяниях в изобразительном искусстве, не слыхивал об авангарде номер 2. Воспитанный и мягкий человек, он задал несколько вопросов, приличных в таких случаях. «А что же именно вы рисуете?» — «Мы, знаете ли, изображаем на фанере квадратики и полоски». — «Любопытно, любопытно. А зачем вы так делаете?» То была жалкая сцена. Однако если мы обратимся к двадцатым годам, то увидим столь же обидные нелепости в отношениях разномастных творцов. Вопиющие различия в образовании, культуре, человеческой состоятельности и не могли произвести ничего единообразного.
Можно ли считать, что присутствовало некое общее движение, единая цель, согласованное представление о творчестве, если такие базовые для искусства понятия, как любовь, мораль, свобода и долг, — были у этих людей несхожими? Может ли оглушительное невежество Родченко ужиться со знаниями Петрова-Водкина или Пастернака? Может ли упорная наглость Малевича сочетаться с достоинством Мандельштама? Что же связывает этих людей — да и связывает ли вообще? Скажем, флорентийские мастера пятнадцатого века вели дискуссии о природе любви с философами (например, Полициано или Мирандола были частыми их собеседниками), Марсилио Фичино толковал для Боттичелли понятие любви (дихотомия Любви Небесной и Любви Земной легла в основу творчества Боттичелли), диспуты флорентийской академии немедленно получали иллюстрации в виде картин. У нас есть основания считать, что Микеланджело и Леонардо, несмотря на известные расхождения (они не любили друг друга), обладали неким общим знанием о прекрасном, внятном им обоим словарем понятий. Непохожие ни в чем, они говорили внутри одного языка.
Сказать такое про мастеров XX века невозможно несмотря на то, что дебатов и публичных выступлений было предостаточно. Собирались, бузили, голосовали, обличали — и оттого кажется, что спорщиков многое роднило. Не роднило ничего, даже ощущение времени. «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?» — представить такую фразу в устах Поповой или Малевича невозможно. Они нисколько не терялись в ощущении времени, знали отлично — и какой день, и который час, и за секундной стрелкой следили постоянно — ошибиться никак не желали.
Они ревниво относились друг к другу, толкались локтями, не пускали соседа в будущее. Фразу, которую популярный авангардист наших дней сделал паролем нового искусства («В будущее возьмут не всех»), мог бы произнести любой из них. Как хотелось каждому, чтобы в бравый новый мир взяли именно его! Тут первейшее значение имел кружок, теплое место, где тебя поймут и выправят билет в бессмертие, выдадут талон на талант. А как определить, какой кружок хорош, какой именно кружок возьмут в будущее? Они соперничали, кусались, пихались, и самым убийственным аргументом было: не понимаешь нового времени, устарел! Не глуп, не пошл, не неискренен — но несовременен: вот самый страшный упрек. Впоследствии тот же аргумент использовали нацисты в своих суждениях о культуре, советские партаппаратчики в борьбе с формализмом, используют этот аргумент и сегодняшние адепты современного искусства. Устарел! — и хватается за сердце уличенный в старомодных пристрастиях человек. В свое время циничный Дали (а он иронически относился к своим пылким современникам) бросил фразу: «Только не старайся быть современным — от этого ты все равно никуда не денешься», — но реплика утонула в общем реве: хотим, очень хотим быть современными!
Некогда христианская мораль говорила: будь достоин своего отца. Вся христианская история — это диалог отца и сыта, преемственность от Иеговы к Христу, но вот появляется особое чувство современности, авангард говорит: благо — это сегодняшняя свобода. Появился особый тип художника — пожилой молодой человек, имитирующий дерзновенность юности пенсионер, так называемый «классик авангарда». «Я хочу быть современным человеком! Я хочу быть современным художником!», — восклицал Джим Дин, авангардист шестидесятых. И никто не спросил его: а зачем? В принципе желание быть современным того же порядка, что и желание ладить с начальством, то есть холуйское. Но признаться самому себе в холуйстве — довольно трудно. Мнится, что есть такая вполне явная вещь — современность, которая объективно существует вне нас (как объективно вне нас существует начальство) и ему надо угождать, приносить жертвы. Время несется вперед, как курьерский поезд, надо успеть купить билет!
Как не вспомнить здесь гордые строчки Мандельштама, человека принципиально антиавангардного: «Нет, никогда ничей я не был современник», и Маяковского: «Кому я к черту "попутчик"? Ни души не шагает рядом». Быть «актуальным», «современным», принадлежать стае, быть опознанным в качестве «своего» — и тому и другому это желание было несвойственно.
«Попутчик революции» — эта формула есть наиболее точное определение врага нового, и применима она широко: ко всем тем, кто не вполне супрематист, недостаточный лучист, непоследовательный концептуалист, не искренний национал-социалист. Вы не понимаете время, вы не слышите его требований, вы просто попутчик нового, вас не возьмут в будущее! Когда в тридцать седьмом году Пикассо выставил «Гернику» в испанском павильоне Парижской выставки, то золотую медаль получил не он, но итальянский и германский павильоны — и награду они получили именно за понимание духа времени, за присутствие волшебного порошка нового времени, преображающего реальность авангарда. Казалось бы, трудно вообразить нечто более актуальное, чем события в баскском городе, разбомбленном легионом «Кондор», — а вот поди ж ты: недостаточно актуально оказалось, были вещи посвежее! Как говаривал Гитлер (в том же 37-м году, на открытии мюнхенской выставки «Великое немецкое искусство»): «Задача искусства в том, чтобы символизировать живое развитие времени». И надо сказать, Гитлер был отнюдь не одинок в таком определении задачи искусства.
В те первые годы, в годы пионерства и бурных деклараций — главным было соревнование за наиновейшее, наипередовейшее чувство современности. И ради актуальности жертвовали всем — в том числе былыми единомышленниками. Акмеистов ненавидели за неактуальную образованность и барство, имажинистов снисходительно презирали за патриархальность, символистов почитали за стариков, футуристов бранили за пролетарские вкусы, и так далее. Интрига борьбы состояла в том, чтобы выделить из общего варева искусства фермент авангарда, определить химический состав нового, найти рецепт волшебного порошка, цемента будущего. Буквально то же самое происходило недавно, в пост-советской России: освобожденные обитатели Парнаса первым делом заинтересовались вопросом: а насколько они отстали от современности, что сейчас носят? Но в превосходной степени эта гонка за новым была устроена в десятые годы: скорее, скорее, еще скорее! Характерно то, что члены противных кружков постоянно устраивали судилища друг другу и создавали рейтинги популярности. Не пропустить в будущее посторонних, не прошляпить очередь в актуальное! Так, было постановлено, что Мандельштам является устаревшим, и Осип Эмильевич мучительно это обвинение переживал. Так, с формулировкой, что методы Шагала «устарели», Малевич отстранил Шагала от директорства в Витебской школе искусств (куда сам Шагал его и пригласил). Хронос не знает пощады — бог современности самый безжалостный из богов.