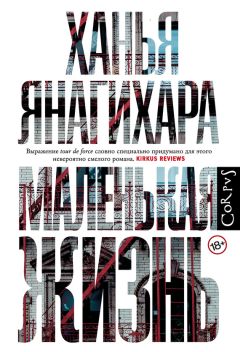— Подумаешь, — сказал он с трудом, боль была слишком сильна, чтобы разговаривать. — И не такое бывало.
Однако ночью, лежа в постели, он возблагодарил свое тело за то, что оно не подвело его раньше, что столько времени он мог себя контролировать. Все эти месяцы, о которых он тайно думал как о времени их романа с Виллемом, ему ни разу не понадобилось инвалидное кресло. Приступы случались редко, кратко, всегда в отсутствие Виллема. Он понимал, что это глупо — Виллем прекрасно знал о его болезни, — но он был благодарен, что именно в этот период, когда они стали смотреть друг на друга новыми глазами, ему была дана передышка, возможность сочинить себя заново, изобразить полноценного человека. Поэтому, вернувшись в свое нормальное состояние, он не стал говорить об этом Виллему — ему скучно было это обсуждать и казалось, что другим тоже должно быть скучно, — а к марту, когда Виллем вернулся, ему уже было получше, он снова ходил, мог более или менее держаться на ногах.
Потом Виллем уезжал надолго еще четыре раза — дважды на съемки, дважды в промо-туры, — и каждый раз, иногда прямо в день отъезда Виллема, его тело как-то ломалось. Но он радовался, что оно так точно, так деликатно выбирает момент: как будто бы тело раньше разума решило, что хочет поддерживать эти отношения, и постаралось убрать с дороги все препятствия и шероховатости.
Теперь была середина сентября, и Виллем опять готовился к отъезду. Согласно ритуалу — который сложился в первую Тайную вечерю, полжизни назад, — в субботу перед отъездом Виллема они ужинали в каком-нибудь дорогом ресторане, а потом долго разговаривали. В воскресенье они долго спали, а вечером обсуждали насущные проблемы: что надо сделать, пока Виллема не будет, какие есть срочные дела, какие надо принять решения. С тех пор, как их отношения изменились, беседы их стали одновременно более интимными и более приземленными, и последние выходные перед разлукой представляли собой квинтэссенцию этой перемены: суббота для страхов, секретов, признаний и объятий, воскресенье для бытовых вопросов и повседневных планов, из которых и состоит ткань жизни.
Ему нравятся и те и другие разговоры с Виллемом, но бытовые — больше, чем он мог бы предположить. Он всегда был связан с Виллемом чем-то важным: любовью, доверием, но ему нравилось быть связанным с ним еще и мелочами — счетами, налогами, записью к зубному врачу. Он всегда вспоминал, как много лет назад, в гостях у Гарольда и Джулии, страшно простудился и провел большую часть выходных на диване в гостиной, завернутый в одеяло, то засыпая, то выплывая из дремы. В субботу вечером они вместе смотрели какой-то фильм, и Гарольд с Джулией стали вполголоса обсуждать переделку кухни в Труро. Он дремал под их негромкий разговор, такой скучный, что не было сил следить за его ходом, но этот разговор наполнял его душу покоем: это было идеальное воплощение взрослых отношений, когда у тебя есть кто-то, с кем можно обсудить механику совместного существования.
— В общем, я оставил дендрологу сообщение и сказал, что ты позвонишь на этой неделе, да? — говорит Виллем. Они в спальне, заканчивают паковать его чемоданы.
— Да, — отвечает он. — Я записал себе — позвоню ему завтра.
— И я сказал Мэлу, что ты поедешь с ним на стройку в следующие выходные.
— Да, это у меня тоже записано.
Виллем, который все это время складывал в чемодан одежду, останавливается и смотрит на него.
— Я чувствую себя ужасно виноватым, — говорит он, — столько всего на тебя оставляю.
— Брось. Мне совсем не трудно, честное слово.
Обычно их расписание составляет помощник Виллема или его секретари, но строительством дома на севере штата они занимаются сами. Они никогда специально это не обсуждали, но для них обоих важно участвовать в строительстве их общего дома — ведь это первое место, которое они обустраивают вместе со времен Лиспенард-стрит.
Виллем вздыхает:
— Но ты ведь так занят.
— Не волнуйся. Правда, Виллем, я со всем справлюсь.
Однако Виллем по-прежнему выглядит обеспокоенным.
В эту ночь они оба лежат без сна. Всю жизнь, сколько он знает Виллема, ему всегда не по себе за день до его отъезда; даже разговаривая с ним, он уже чувствует, как сильно будет по нему скучать. Как ни странно, именно сейчас, пока они физически рядом, это ощущается особенно остро; он так привык теперь к присутствию Виллема, что его отсутствие стало еще мучительней, еще больше выбивает из колеи.
— Знаешь, о чем еще мы должны поговорить? — И когда он не отвечает, Виллем поднимает его рукав и держит его за запястье. — Я хочу, чтобы ты мне обещал.
— Обещаю, — говорит он. Виллем отпускает его руку, снова ложится на спину. Они молчат.
— Мы оба устали. — Виллем зевает. И это правда, столько всего произошло за эти два года: Виллема записали в геи; Люсьен ушел на пенсию, и он теперь возглавляет судебный отдел; они строят загородный дом, час двадцать езды на север от Нью-Йорка. Когда они вместе в выходные — а когда Виллем в городе, он старается проводить выходные дома и не задерживаться в субботу, хотя для этого приходится еще раньше приходить в офис по рабочим дням, — они иногда проводят ранний вечер, просто лежа рядом на диване в гостиной, не разговаривая, пока комната вокруг них постепенно темнеет. Иногда они идут куда-нибудь, но гораздо реже, чем раньше.
— Переход к лесбиянству произошел быстрее, чем я рассчитывал, — объявляет Джей-Би однажды вечером. Они пригласили на ужин Джей-Би с его новым бойфрендом Фредриком, а также Малкольма с Софи, и Ричарда, и Индию, и Энди с Джейн.
— Отстань от них, Джей-Би, — говорит Ричард с улыбкой, пока все остальные хохочут, но, кажется, Виллем совсем не обиделся, и он, безусловно, тоже. В конце концов, какое ему дело до всего, кроме Виллема.
Некоторое время он ждет, скажет ли Виллем что-то еще. Еще он думает, придется ли заниматься сексом; он все еще не в состоянии определить, когда Виллем хочет этого, а когда нет, — он не знает, перерастет ли объятие в нечто настойчивое и нежеланное, но он всегда готов к этому. Это одна из вещей — и он ненавидит признаваться в этом себе, он никогда бы не сказал этого вслух, — очень немногих вещей, которые радуют его в отсутствии Виллема: в эти недели и месяцы ему не надо заниматься сексом, и он может наконец вздохнуть свободно.
Они занимаются сексом ровно полтора года (он знает, что пора уже прекращать счет, как будто это тюремное заключение и скоро он отсидит и освободится); Виллем ждал его почти десять месяцев. И все это время он остро ощущал, что где-то тикают часы, что, хотя он и не знает, сколько времени ему осталось, все-таки ясно: как бы терпелив ни был Виллем, он не будет ждать вечно. Несколько месяцев назад, когда Виллем соврал Джей-Би про офигительный секс, он поклялся себе этой же ночью сказать, что он готов. Но струсил, позволил себе новую отсрочку. Через месяц, когда они поехали в Юго-Восточную Азию, он опять пообещал себе попробовать — и опять ничего не сделал.
A потом наступил январь, и Виллем уехал в Техас на съемку «Дуэтов», и он неделями готовил себя к решительному шагу, и в ту ночь, когда Виллем вернулся — а он до сих пор не мог побороть изумление от того, что Виллем к нему возвращается — изумление и восторг, — он был так счастлив, что хотелось высунуть голову в окно и кричать просто от невероятности всего этого, — он сказал Виллему, что готов.
Виллем посмотрел на него.
— Ты уверен? — спросил он.
Конечно, он не был уверен. Но он знал, что, если он хочет быть с Виллемом, рано или поздно придется решиться.
— Да, — сказал он.
— Ты действительно этого хочешь? — спросил Виллем, все еще не сводя с него глаз.
Что это, думал он, проверка? Настоящий вопрос? Лучше перестраховаться, решил он, и сказал «да».
— Да, конечно, — сказал он, и по улыбке Виллема понял, что ответил правильно.
Но сначала ему пришлось рассказать Виллему о своих болезнях. «В будущем перед сексом предупреждайте партнера о своих заболеваниях, — сказал ему один из врачей в Филадельфии. — Нехорошо, если вы кого-то заразите». Врач говорил с ним сурово, и с ним навсегда остался этот стыд и страх, что он передаст кому-то всю эту грязь. Он написал себе целую речь и повторял ее, пока не запомнил наизусть, но все равно говорить об этом оказалось гораздо труднее, чем он ожидал, он говорил настолько тихо, что приходилось повторять, и от этого получалось еще хуже. Прежде ему приходилось произносить эту речь всего однажды, перед Калебом, который долго молчал, а потом сказал низким голосом: «Джуд Сент-Фрэнсис, ну ты и развратник», — и ему пришлось улыбнуться в знак согласия.
— Колледж, — только и сказал он, и Калеб слегка улыбнулся в ответ.
Виллем тоже молчал, наблюдая за ним, потом спросил: