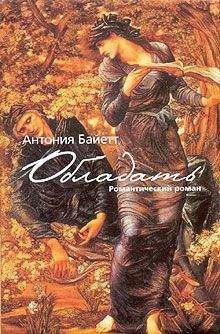Ознакомительная версия.
31 Засвидетельствовано в письме Пейшнс Мередит к её сестре Фейт, в настоящее время находящемся в собственности Марианны Уормольд, правнучки Эдмунда Мередита.
32 См. прим. 24 выше, а также запись в неизданном дневнике Эллен Падуб, за 25 ноября 1889 г.
33 Зигмунд Фрейд, «Тотем и табу», Собрание соч. (станд. изд. 1955 г.), т. 13, сс. 65-66.
27 ноября 1889 г.
Тихо и зыбко она шла со свечою в руке по тёмным коридорам, потом стала подниматься по лестнице на третий этаж, на каждой из площадок медля, точно в неуверенности. Старая женщина, но если посмотреть на неё со спины, в полумраке – как теперь, – её возраст определить почти невозможно. На ней длинный халат тонкого бархата и мягкие домашние туфли, расшитые узорами. Она несёт себя прямо и легко, хотя она, что называется, в теле. Волосы у неё убраны в длинную косу между ровными лопатками, и в жёлтом свете свечи кажутся бледным золотом, – на самом деле они кремовато-седые, некогда каштановые.
Она прислушалась к ночному дому. Её сестра Надин спит в лучшей свободной комнате; где-то на втором этаже мирно посапывает племянник Джордж, подающий надежды молодой адвокат.
В своей собственной спальне, со скрещёнными на груди руками, с закрытыми глазами, неподвижно лежит Рандольф Генри Падуб. Голова его покоится на вышитой шёлковой подушечке, волосы, мягкие и седые – на стёганом атласе покрывала…
Сегодня, когда она поняла, что ей не заснуть, она пошла к нему, отворила дверь тихо-тихо, и стояла над ним, постигая перемену. После смерти, в первые минуты, он похож был на самого себя, отдыхающего от борьбы, смягчившегося, успокоенного. Теперь душа отлетела, и это был словно не он, а его странное, скудельное подобие, которое час от часу костлявело, всё резче обтягивалось кожей, что на скулах стала желта и тонка, и у которого глазницы западали всё глубже, подбородок заострялся. Под пологом молчания, она зашептала слова молитвы; потом сказала тому, что лежало на постели: «Где ты?» В доме, как и каждую ночь, пахло прогоревшим углем каминов, стылыми их решётками, старым дымом. Она направилась к себе в маленький кабинет, где на изящном бюро лежали стопкою письма соболезнования, на них предстояло ответить, был ещё список приглашённых на завтрашние похороны, с аккуратной галочкой возле имён. Она взяла из ящика свой дневник и ещё какие-то бумаги, посмотрела в нерешительности на горку писем, и выскользнула со свечою в коридор, и по пути к лестнице слушала, как витают по дому сон и смерть…
Она поднялась на последний этаж, где под крышей размещалась рабочая комната Рандольфа, которую она всегда почитала своим долгом оберегать от посторонних – даже от себя. Шторы у него были раздёрнуты, в комнату лился свет газового фонаря и свет полной луны, плывшей в небе, серебристой. Ещё слышался лёгкий, почти призрачный, запах его табака. На столе стопки книг, поселившихся здесь до его болезни. В этой комнате по-прежнему ощущение его присутствия, его работы… Она присела за его письменный стол, поставив перед собою свечу, и вдруг ей стало – нет, конечно, не легче , разве может стать легче ? – но хотя бы не так безутешно , словно то, что пока ещё существовало здесь, было менее страшным, менее омертвелым, чем то, что почило… лежало недвижно как камень, внизу, в спальне.
В кармане халата, вместе с бумагами, его часы. Она вынула часы, поглядела. Три часа утра. Это будет его последнее утро в доме.
Она повела взглядом вокруг: в стёклах книжных шкафов смутно тлели многие отраженья свечи. Выдвинула наугад пару ящиков стола – стопки, кипы листков, исписанных его почерком, почерком других людей… Как решать судьбу всего этого, и какая она судья?..
Вдоль одной из стен размещены его ботанические и зоологические коллекции. На этажерках – микроскопы в деревянных футлярах на петлях, с защёлками, коробки стёклышек с препаратами, альбомы с зарисовками, образцы морской фауны. Посередине стены установлен большой морской аквариум в изящной деревянной оправе, с водорослями, актиниями и морскими звёздами, а справа и слева от него, на особо устроенных полках – стеклянные резервуары, в которых обитают, туманят стекло своим дыханьем целые сообщества живых растений. На этом фоне месье Мане запечатлел в своё время хозяина кабинета, и, глядя на портрет, кажется, будто поэт расположился среди первобытных болотных папоротников, или в зелёной полосе у самой кромки древнего океана… Теперь предстоит пристроить куда-то всё это богатство. Лучше посоветоваться с его друзьями из Научного музея, те скажут, где пригодятся коллекции и оборудование. Может, принести всё в дар какому-нибудь достойному образовательному заведению, например, клубу просвещения рабочих или школе?.. У Рандольфа был, припомнила она, особенный герметический ящичек для препаратов, с внутренним стеклянным сосудом, непроницаемый для воздуха и с глухим запором. Да, вот он, ящичек, похожий на ларец – там, где ему следует быть, – вещи у Рандольфа всегда на месте. Этот ящик-ларец подойдёт лучшим образом.
Нужно только принять решение, тотчас же, потому что завтра будет поздно.
До своей роковой болезни, он никогда, ни разу серьёзно не болел. Болезнь тянулась долго; три последние месяца провёл он в постели. Оба знали, какова будет развязка, лишь не ведали, когда именно наступит, сколько точно времени отведено. Эти месяцы они жили вместе в одной комнате, его спальне. Она была постоянно близ него, приоткрывала окно, впуская нужную меру воздуха, поправляла подушку; под конец кормила его с ложки; и читала ему, когда самая лёгкая книга выскальзывала из его ослабевших рук. Все его нужды и неудобства были ей понятны без слов. Его боль, в некотором смысле, она тоже с ним разделяла. Сидя тихо подле него и держа его белую, точно бумажную, руку, она чувствовала, как день ото дня угасают его силы. Силы тела, но не ума! Было время, о начале болезни, когда он вдруг сделался одержим стихами Джона Донна: он читал их наизусть с выразительностью, обращая в потолок свой голос, хрипловато-раскатистый и прекрасный, отдувая изо рта в стороны мягкие клочья бороды. Когда он вдруг забывал какую-то строку, сразу принимался звать: «Эллен, Эллен, скорее, я сбился!..» И она тут же начинала проворно листать страницы, искать…
«Что б я делал без тебя, моя милая, – говорил он. – Вот мы и достигли конца, неразлучно. Ты несёшь мне утешение. Мы с тобой знали счастье».
«Да, мы с тобою счастливы», – отвечала она, и это было правдой. Они были счастливы даже в эти, последние его месяцы, тем же счастьем, что и всегда: сидеть бок о бок, почти без слов, и разглядывать вместе какую-нибудь занимательную вещь или картинку в книге…
Входя в комнату, она слышала голос:
Любовь любовников земных
(Рождённая сближеньем тел)
Находит в разлученьи их
Свой здравомыслимый предел.
Любовь же наша – что там ей
Кора телесного? Меж нас —
Взаимодушие прочней
Желанности рук, уст и глаз.
Он хотел дожить отпущенное, не роняя «высокого стиля». Она видела – он старается об этом изо всех сил, он борется с болью, с тошнотою и страхом, чтобы молвить ей те слова, которые она потом сможет вспоминать с теплотой, которые им обоим сделают честь. Кое-что из сказанного звучало как «последнее, для истории». «Я теперь понимаю, отчего Сваммердам жаждал сумерек тихих». Или: «Я пытался писать по совести, пытался честно обозреть всё видимое оттуда, где я находился». И ещё, для неё: «Сорок один год вместе, безгневно. Немногие мужья и жёны могут похвалиться».
Она записывала все эти изречения, не за их достоинства, хотя они имели подобающую складность и силу, а за то, что стоит их перечесть, как сразу вспоминается его лицо, обращённое к ней, эти умные глаза под изрезанным морщинами лбом в испарине, и слабое пожатье сильных некогда пальцев. «Помнишь, милая… ты сидишь… как водяница… как русалка сидишь… на камне среди водорослей… у источника… как он звался?., не подсказывай!., источник поэта… источник… Воклюзский источник! Сидишь на солнце».
«Мне было страшно. Кругом всё бежит, сверкает».
«Страшно… А виду не подавала…»
В конце концов, в итоге, больше всего их объединяло умалчивание.
– Понимаешь, всё дело в этом умалчивании! — сказала она громко вслух, обращаясь к нему в рабочей комнате, где уже не встретить ответа, ни гнева, ни сочувствия…
Она разложила перед собою вещи, ждущие решения. Пачка писем, обвязанных выцветшей лиловой лентой… Браслет, который она сплела из своих и его волос в последнюю неделю… Его часы… И ещё три письма: первое, его рукою, без даты, найденное у него в столе; второе, адресованное ей, писанное тонким, беспокойным почерком; третье – запечатанный конверт без надписи…
Ознакомительная версия.