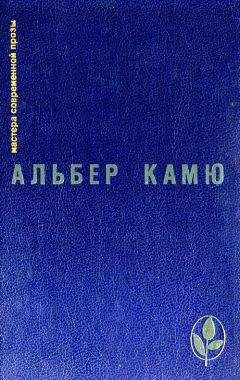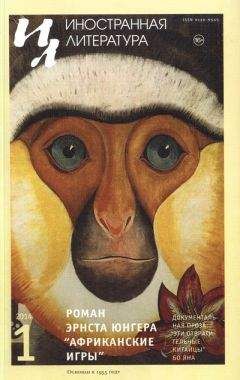Вернувшись, он застал у себя еще несколько человек, и ему пришлось отбиваться от обступивших его гостей, которые были в восторге, что снова видят его, и от домашних, пристававших к нему с вопросами. Наконец он добрался до конца коридора. В эту минуту его жена выходила из кухни. Иона поставил стремянку и крепко прижал Луизу к груди. Она умоляюще посмотрела на него. «Прошу тебя, — сказала она, — не начинай сначала». «Нет-нет, ответил Иона. — Я буду писать. Я должен писать». Но казалось, он говорит сам с собой, взгляд у него был отсутствующий. Он принялся за работу. На середине высоты стен он начал сооружать помост, чтобы получилось нечто вроде узкой, но глубокой и высокой антресоли. К концу дня все было готово. Встав на стремянку, Иона уцепился за край помоста и, чтобы испытать его прочность, повис на нем и несколько раз подтянулся. Потом он присоединился к гостям и домашним, и все были рады, что он стал опять таким приветливым. Вечером, когда в доме было сравнительно мало народу, Иона взял керосиновую лампу, стул, табуретку и подрамник и все это поднял на антресоль, сопровождаемый любопытными взглядами трех женщин и детей. «Вот так, — сказал он, взобравшись на свой насест. — Тут я буду работать, никому не мешая». Луиза спросила, уверен ли он, что сможет там писать. «Конечно, — ответил он, — для этого много места не надо. Мне будет здесь свободнее. Некоторые великие художники писали при свечах, и потом… Доски не прогибаются?» Нет, они не прогибались. «Будь спокойна, — сказал Иона, — это прекрасное решение проблемы». И он спустился вниз.
На следующий день, с самого утра, он влез на антресоль, сел, поставил подрамник на табуретку, прислонив его к стене, и стал ждать, не зажигая лампы. Он отчетливо слышал только шумы, доносившиеся из кухни и уборной. Все остальные — телефонные звонки и звонки в дверь, шаги, разговоры — звучали приглушенно, словно долетали с улицы или с соседнего двора. И в то время, как вся квартира была затоплена беспощадно ярким светом, здесь царил отдохновенный сумрак. Время от времени приходил кто-нибудь из друзей и обращался к Ионе из-под антресоли: «Что ты там делаешь, Иона?» — «Работаю». — «Без света?» — «Пока — да». Он не писал, но размышлял. В сумраке и относительной тишине, которая по сравнению с тем, что было прежде, казалась ему могильной, он прислушивался к собственному сердцу. Звуки, доносившиеся до антресоли, как бы уже не касались его, даже если это были слова, обращенные к нему. Так одинокие люди умирают в своей постели, среди сна, а утром в доме, где нет ни одной живой души, лихорадочно и настойчиво звонит телефон, взывая к навеки глухому телу. Но Иона жил, он прислушивался к тишине в себе самом, он ждал свою счастливую звезду, которая еще скрывалась, но готовилась снова подняться и засиять, как прежде, озарив его жизнь, полную пустой суеты. «Засияй, засияй, — говорил он. — Не лишай меня своего света». Она засияет, он был в этом уверен. Но он должен был подумать еще, пользуясь тем, что ему наконец дано оставаться в одиночестве, не разлучаясь со своими близкими. Ему нужно было осознать то, что до сих пор он еще ясно не понял, хотя всегда чувствовал и всегда писал, как будто знал. Он должен был наконец овладеть этой тайной, которая, как он угадывал, была не только тайной искусства. Потому-то он и не зажигал лампы.
Теперь каждый день Иона поднимался на антресоль. Знакомые стали приходить реже, чувствуя, что озабоченной Луизе не до разговоров. Иона спускался, когда его звали к столу, и опять взбирался на насест. Целый день он неподвижно сидел в темноте. Только ночью он присоединялся к жене, уже улегшейся спать. Спустя несколько дней он попросил Луизу принести ему завтрак, что она и сделала с заботливостью, тронувшей Иону. Чтобы не беспокоить ее в других случаях, он подал ей мысль заготовить кое-какую провизию, которую он будет держать у себя на антресоли. Мало-помалу он перестал спускаться в течение дня, но при этом едва прикасался к своим припасам.
Однажды вечером он позвал Луизу и попросил у нее одеяла. «Я проведу ночь здесь». Луиза посмотрела на него, откинув назад голову. Она было раскрыла рот, но сдержалась и ничего не сказала. Она только пристально глядела на него с тревожным и печальным выражением лица, и он вдруг увидел, как она постарела, и понял, что их нелегкая жизнь наложила и на нее глубокий отпечаток. Тогда он подумал о том, что никогда ей по-настоящему не помогал. Но прежде чем он смог заговорить, она улыбнулась ему с нежностью, от которой у него сжалось сердце. «Как хочешь, дорогой», — сказала она.
С той поры Иона ночевал на антресоли, откуда теперь почти не спускался. Посетители исчезли, потому что Иону нельзя было застать ни днем, ни вечером. Одним говорили, что он за городом, другим, когда надоедало лгать, объясняли, что он нашел себе мастерскую. По-прежнему приходил только верный Рато. Он взбирался на стремянку, и над помостом показывалась его крупная голова. «Как дела?» — спрашивал он. «Прекрасно». — «Ты работаешь?» — «А как же!» — «Но ведь у тебя нет холста!» — «И все же я работаю». Трудно было продолжать этот диалог стремянки с антресолью. Рато качал головой, спускался, чинил Луизе пробки или замок, потом, не влезая на стремянку, прощался с Ионой, который из темноты отвечал ему: «Привет, старина». Однажды вечером он добавил: «И спасибо». — «За что?» — «За то, что ты меня любишь». — «Вот новость!» — сказал Рато и ушел.
В другой вечер Иона позвал Рато, и тот поспешно подошел. В первый раз наверху горела лампа. Иона с озабоченным выражением лица выглянул из антресоли. «Дай мне холст», — сказал он. «Да что с тобой? Ты исхудал, ты похож на привидение». — «Я уже несколько дней почти не ем. Но это ничего, мне нужно работать». — «Поешь сначала». — «Нет, я не хочу есть». Рато принес холст. Прежде чем скрыться в глубине антресоли, Иона спросил у него: «Как они там?» — «Кто?» — «Луиза и дети». — «У них все в порядке. Но им было бы лучше, если бы ты был с ними». — «Я с ними не расстаюсь. Главное — скажи им, что я с ними не расстаюсь». И он исчез. Рато высказал свое беспокойство Луизе. Та призналась ему, что уже несколько дней не находит себе места. «Как быть? Ах, если бы я могла работать вместо него! — Она горестно смотрела на Рато. — Я не могу без него жить!» — сказала она. Рато поразило, что лицо у нее снова стало юным. И тут он заметил, что она покраснела.
Лампа горела всю ночь и все утро следующего дня. Когда Рато или Луиза подходили к антресоли и обращались к Ионе, он отвечал только: «Оставь меня, я работаю». В полдень он попросил керосину. Коптившая лампа снова разгорелась и ярко светила до самого вечера. Рато остался ужинать с Луизой и детьми. В полночь он попрощался с Ионой. У антресоли, по-прежнему освещенной, он с минуту помешкал, потом ушел, ничего не сказав. Утром, когда Луиза встала, лампа все еще горела.
Выдался прекрасный день, но Иона этого не замечал. Холст был повернут лицевой стороной к стене, а он сидел в изнеможении, уронив руки на колени. Он говорил себе, что отныне никогда больше не будет работать. Он был счастлив. Слышно было, как хныкают дети, льется вода из крана, звякает посуда. Луиза что-то говорила. По улице проезжал грузовик, и в огромных окнах дребезжали стекла. Жизнь шла, мир был юн и прекрасен, Иона прислушивался к милой суетне людей. В таком отдалении она не препятствовала наполнявшей его радостной силе, его искусству, его мыслям, которые он не мог высказать, которым суждено было навсегда остаться неизреченными, но которые поднимали его в недосягаемую высь, где так вольно и сладко дышится. Дети бегали по комнатам, маленькая смеялась, а вот засмеялась и Луиза — он так давно не слышал ее смеха. Он их любил! Как он любил их! Он погасил лампу, и в наступившей темноте… что это, уж не его ли звезда засияла, как прежде? Да, это была она, он узнавал ее, и сердце его переполняла благодарность. И, глядя на нее, он вдруг бесшумно упал.
«Ничего страшного, — сказал врач, которого позвали к Ионе. — Он слишком много работает. Через неделю он будет на ногах». «Он выздоровеет, доктор, вы в этом уверены?» — спросила подавленная Луиза. «Выздоровеет». В другой комнате Рато рассматривал холст. Он был совершенно чист, только посредине Иона крохотными буквами написал одно слово: не то «отъединение», не то «объединение» — трудно было разобрать.
Калигула[9]
Пьеса в четырех действиях
Действующие лица
Калигула.
Цезония.
Геликон.
Сципион.
Херея.
Сенект, старый патриций.
Патриции:
Метелл.
Луций.
Лепид.
Октавий.
Управитель.
Мерейя.
Муций.
Первый стражник.
Второй стражник.
Первый служитель.
Второй служитель.
Третий служитель.