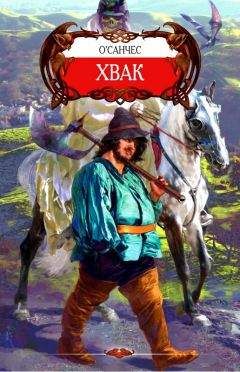— Хочешь компоту? Ты любишь компот? — спросила она, нагнувшись, и я увидела, что она держит за руку маленького закутанного то ли мальчика, то ли девочку, только нос торчит да красные щеки.
— Ага, — сказал ребенок.
— Дайте нам компоту триста грамм, — обратилась женщина к продавщице.
Продавщица стала взвешивать компот, пересыпала в совке урюк, сушеные яблочки и чернослив, а женщина нетерпеливо топталась на месте, взглядывала на продавщицу, на весы, на витрину, на меня, на ребенка.
— Сейчас придем домой, Боренька, — приговаривала она. — Отварим компоту и съедим, да? Сейчас нам тетя отпустит, и мы пойдем домой… — И улыбнулась какой-то неуверенной близорукой улыбкой.
У меня вдруг прямо защемило все внутри от жалости к этой женщине и мальчику, просто так, не знаю почему, наверное, нечего было ее и жалеть, может, она вовсе и не несчастная, а, наоборот, просто мечтает о своей теплой комнате, о том, как будет есть горячий компот вместе с Борей, а Боря скоро вырастет и пойдет в школу, а там — время-то летит — глядишь, и школу окончит… Я раньше не понимала, почему люди с таким значением говорят: «Как время-то летит», — почему это всегда не пустые слова, а всегда в них или грусть, или неукротимые желания, или бог весть что, а сейчас мне вдруг показалось, что мне открылось что-то в этой щемящей жалости к смешной закутанной парочке, мечтающей о компоте.
Прямо не знаю, что сегодня со мной происходит. Может, это потому, что у меня сегодня оказалось столько пустого времени: заседание комиссии отложили, репетиция только завтра, Эдик еще не приехал. Прямо не знаю, какая-то я стала рева и размазня. Мне вдруг захотелось такого Бореньку, и идти с ним домой, и нести в маленьком кулечке триста граммов компота.
Нагруженная покупками, я вышла из магазина. Мимо шла машина, полная каких-то веселых парней. Я услышала, как в кузове заколотили кулаками по крыше кабины. Машина притормозила, в воздухе мелькнули меховые унты, и передо мной вырос улыбающийся — рот до ушей — высокий парень.
— Привет! — сказал он. — Дорогая прима, не боись! Подарочек от восторженных поклонников вашего уважаемого таланта.
И протянул мне — господи! — огромный-преогромный, оранжевый-преоранжевый, самый что ни на есть настоящий, всамделишный апельсин.
С утра я прихватил с собой пару банок тресковой печени: чувствовали мои кишки, чем все это дело кончится.
Пятый склад был у черта на рогах, за лесной биржей, возле заброшенных причалов. Неприятная местность для глаза, надо сказать. Иной раз забредешь сюда, так прямо выть хочется: ни души, ни человека, ни собаки, только кучи ржавого железа да косые столбы. Болтали, что намечена модернизация этих причалов. И впрямь: недалеко от склада сейчас стоял кран с чугунной бабой, четырехкубовый экскаватор и два бульдозера. Но работы, видно, еще не начались, и пока что здесь было все по- прежнему, за исключением этой техники. Пока что сюда направили нас для расчистки пятого склада от металлолома и мусора.
Умница я. Не просчитался я с этими банками. Часам к трем Вовик, вроде бы наш бригадир, сказал:
— Шабашьте, матросы! Айда погреемся! У меня для вас есть сюрприз.
И достает из своего рюкзака двух «гусей», две таких симпатичных черных бутылочки по ноль семьдесят пять. Широкий человек Вовик. Откуда только у него гроши берутся для широты размаха?
Сыграли мы отбой, притащили в угол какие-то старые тюфяки и драное автомобильное сиденье, забаррикадировались ящиками — в общем, получилось купе первого класса.
Вовик открыл свои бутылочки, я выставил свои банки, а Петька Сарахан вытащил из штанов измятый плавленый сыр «Новый».
— Законно, — сказал он. — Не дует.
Короче, устроились мы втроем очень замечательно, прямо получился итеэровский костер. Сидим себе, выпиваем, закусываем. Вовик, понятно, чувствует себя королем.
— Да, матросы, — говорит, — вот было времечко, когда я из Сан-Франциско «либертосы» водил, яичный порошок для вас, сопляки, таскал.
— Давай, — говорим мы с Петькой, — рассказывай.
Сто пять раз мы уже слышали про то времечко, когда Вовик «либертосы» водил, но почему еще раз не доставить человеку удовольствие? К тому же травит Вовик шикарно. Был у нас в лесной командировке на Нере один хлопчик, он нам по ночам романы тискал про шпионов и артисток. Ну, так Вовик ему не уступит, честно. Прямо видишь, как Вовик гуляет по Сан-Франциско с двумя бабами — одна брюнетка, другая еще черней, — прямо видишь, понял, как эти самые «либертосы» идут без огней по проливу Лаперуза, а япошкисамураи им мины подкладывают под бока.
Не знаю, ходил ли Вовик в самом деле через океан, может, и не ходил, но рассказывает он здорово, мне бы так уметь.
— …и страшной силы взрыв потряс наше судно от киля до клотиков. В зловещей темноте завыли сирены. — Глаза у Вовика засверкали, как фонари, а руки задрожали. Он всегда начинает нервничать к концу рассказа и сильно действовал на Петьку, да и на меня, ей-ей.
— Суки! — закричал Петька по адресу самураев.
— Суки они и есть, — зашипел Вовик. — Понял, как они нейтралитет держали, дешевки?
— Давай дальше, — еле сдерживаясь, сказал я, хотя знал, что будет дальше: Вовик бросится в трюм и своим телом закроет пробоину.
— Дальше, значит, было так… — мужественным голосом сказал Вовик и стал закуривать.
Тут, в этом месте, он закуривает долго-долго, прямо все нервы из тебя выматывает.
— Вот они где, полюбуйтесь, — услышали мы голос и увидели прямо над нами Осташенко, инспектора из портового управления. С ним подошел тот инженер, что выписывал нам наряд в этот склад.
— Так, значит, да? — спросил Осташенко. — Вот так, значит? Таким, значит, образом?
Не люблю типов, что задают такие глупые вопросы. Что он, сам не видит, каким, значит, образом?
— Перекур у нас, — сказал я.
— Водочкой, значит, балуетесь, богодулы? Каюткомпанию себе устроили?
— Кончайте вопросы задавать, — сказал я. — Чего надо?
— Вам, значит, доверие, да? А вы, значит, так?
Тогда я встал.
— Или это работа для моряков? — закричал я, перебираясь через ящики поближе к Осташенко. — Мать вашу так, как используете квалифицированные кадры?!
Инженер побледнел, а Осташенко побагровел.
— Ты меня на горло не бери, Костюковский! — заорал он на меня. — Ты тут демагогией не занимайся, тунеядец!
И пошел:
— На судно захотел, да? На сейнерах у нас сейчас таким, как ты, места нет, понял? На сейнерах у нас сейчас только передовые товарищи. А твои безобразия, Костюковский, всем уже надоели. Так, смотри, из резерва спишем…
— Чуткости у вас нет, — попытался взять я его на понт.
Ух ты, как взвился!
— Чуткость к тебе проявляли достаточно, а что толку? Не понимаешь ты человеческого отношения. Тебе — абы зенки залить. С «Зюйда» тебя списали, с плавбазы тоже, на шхуне «Пламя» и трех месяцев не проплавал…
— Ну, ладно, ладно, — сказал я, — спокойно, начальник.
Мне не хотелось вспоминать о шхуне «Пламя».
— Ты думаешь, так тебе просто и пройдет эта история с каланами? — понизил голос Осташенко, и глаза у него стали узкими.
— Эка вспомнили! — свистнул я, но, честно говоря, стало мне кисло от этих его слов.
— Мы все помним, Костюковский, решительно все, имей это в виду.
Подошел Вовик.
— Простите, — сказал он инженеру, — вы нам дали на очистку этих авгиевых конюшен три дня и три ночи, да? Кажется, так?
— Да-да, — занервничал инженер. — Три рабочих смены, вот и все. Да я и не сомневаюсь, что вы… это товарищ Осташенко решил проверить…
— Завтра к концу дня здесь будет чисто, — картинно повел рукой Вовик. — Все. Повестка дня исчерпана, можете идти.
Когда начальники ушли, мы вернулись в свое «купе», но настроение уже было испорчено начисто. Выпили мы и закусили по следующему кругу без всякого вдохновения.
— А чего это он тебя каланами пугал? — скучно спросил Вовик.
— Да там была одна история у нас на шхуне «Пламя», — промямлил я.
— А чего это такое — каланы? — спросил Петька.
— Зверек такой морской, понял? Не котик и не тюлень. Самый дорогой зверь, если хочешь знать. Воротник из калана восемь тыщ стоил на старые деньги, понял? Ну, стрельнули мы с одним татарином несколько штучек этой твари. Думали во Владике барыгам забодать.
— А вас, значит, на крючок? — усмехнулся Вовик.
Вот оно, пошло. Шибануло. Мне стало горячо, и в сердце вошел восторг.
— Хотите, ребята, расскажу вам про этот случай?
Мне показалось, что я все смогу рассказать подробно и точно и во всех выражениях, как Вовик. Как ночью в кубрике мы сговаривались с татарином, а его глазки блестели в темноте, как будто в голове у него вращалась луна. Потом — как утром шхуна стояла вся в тумане и только поверху был виден розовый пик острова. Как мы отвязывали ялик и так далее, и как плавают эти каланчики, лапки кверху, и какие у них глаза, когда мелкокалиберку засовываешь в ухо.