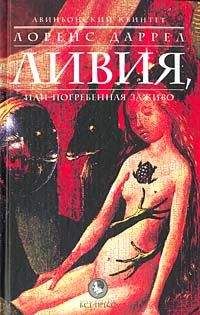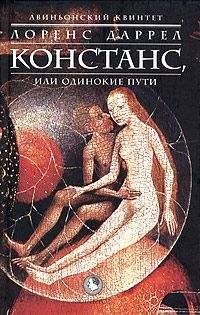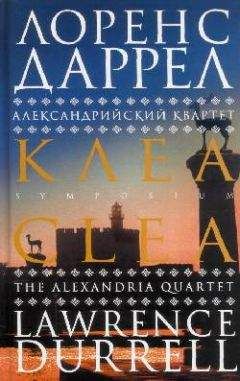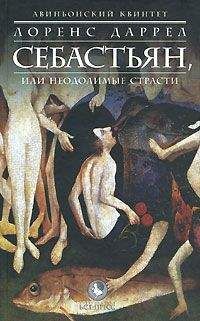Он сел, положив книгу на колени, и вновь загляделся на пламя, в извивах которого видел змей, огненные лестницы, сгорающего на костре крестоносца, скорпиона, распятие.
Чего только не бывает. Вот и Сатклифф мог бы родиться где-нибудь к северу от Лонгборо, скажем, в семье почтенных квакеров. Или мельников? Он был умным мальчиком, заслужив стипендию, отучился в Оксфордском университете, а потом, подобно множеству других, угодил на рынок невольников-педагогов. Он отредактировал несколько подстрочников, но их «зарезал» крикливый зануда-профессор — шанс стать переводчиком был потерян. Надвигалась нищета, а так как у него не было цели, ради которой стоило бы голодать, то он принял первое же предложение, отправившись преподавать французский язык и музыку в школу для девочек в Гимендейле. В этом благотворительном религиозном заведении учились сироты. Преподавательский состав наполовину состоял из монашек. С этого началось его падение. Монашки захаживали к ученым мужам, ученые мужи — к монашкам, дальше — ближе, голова кругом… Он действительно не виноват…
Гимендейл находился недалеко от Борнмута, южного морского курорта, который уже в те времена облюбовали отошедшие от дел священники, адвокаты, учителя и колониальные чиновники. Изгороди из бирючины, подглядывания из-за занавесок, претензии на родовитость; тихие улицы, просыпающиеся только когда появляется позвякивающий бидонами маленький фургон молочника. Отличное место для развития недюжинных способностей, мрачно говорил он себе, мрачно выходя на ежедневную прогулку: дважды вокруг орошаемых полей, а в дождь один раз — туда и обратно — вдоль скал. Ох, уж этот вечный дождь! Восемь часов в неделю Сатклифф проводил со своими болезненно тощими ученицами, у них были прилизанные волосы и вялые мозги. Que cosa fare?[61] Уже тогда он считал себя страшным неудачником, поскольку судьба поймала его в этот благостный капкан. Тягомотная рутина. И он по мере сил соответствовал предписанному образу учителя. Но иногда горожане слышали, как он громко хохочет. Хриплый злобный смех был предназначен грязно-серым, набрякшим от воды небесам. Пабы здесь закрывались рано, да и в них нечем было дышать от едкого, дерущего горло табачного дыма. А еще имелись один приличный книжный магазин «Комминз», библиотека, в которой давали книги на дом, и конечно же два кинотеатра. Сатклифф погружался в чтение. Слава богу, он неплохо владеет французским языком и может забыться за книгами. Попробуем представить толстого близорукого мужчину в бесформенном твидовом пиджаке с множеством дырок от сигарет и трубки. У него была твердая, чинная походка, предполагающая уверенность в себе, которую он вовсе не ощущал. Увы, он совершал ошибку, вечно стараясь что-то наверстать.
Одиночество привело его к яростным спорам с самим собой, а это, в свою очередь, к весьма эксцентричному поведению, во всяком случае, с точки зрения местного общества. Например, эти воскресные представления… Утром, когда его подопечные строились во дворе, чтобы гуськом тащиться в церковь по пустынным улицам, Сатклифф (в мантии с капюшоном во главе процессии) любил воображать, будто он участвует в других, куда более романтических событиях. Так, однажды он якобы вел на поле игроков в крикет, чтобы вырвать победу у австралийцев; он втягивал носом воздух, смотрел на солнце, слюнявил по-скаутски палец, чтобы определить направление ветра (прежде чем выпустить игроков). Откашлявшись, он сделал несколько знаков невидимым судьям, указывая положение прикрытия… и т. д. А через неделю он решил побыть вождем африканского племени в тигриной шкуре, он размахивал увесистой дубинкой, ритмично подпрыгивая и еле слышно подпевая неслышным барабанам. Он был предводителем юных охотников, и они собирались заполучить льва — ни больше ни меньше! Был и такой вариант: священник, который провожает жертв Террора к гильотине. Стук колес крытой двуколки по камням парижских мостовых — будто настоящий — доносился до ушей мечтателя. Что и говорить, выразительная мимика и странная жестикуляция вызывали у начальников Сатклиффа тревогу. Однако в них лишь отражалась его интенсивная и бурная внутренняя жизнь.
Говорить Сатклиффу было не с кем, вот он и привык разговаривать с самим собой — постоянно вести безмолвный монолог. Окружающие видели только его гримасы, иллюстрировавшие мысли, которые метались у него в голове, как стаи рыб. Отрешенный взгляд, губы трубочкой, то вскинутые, то сдвинутые брови. Сморщенный нос. Часто (видно, из-за пагубного влияния пудинга на почечном жире и пирога с патокой) он разделял воображаемую толпу на три категории: Чесоточники, Кровопускальщики и обычные Крикуны. На прогулки он брал с собой потрепанный зонт и надевал огромные башмаки с крючками и петлями. «Меня сформировал доктор Арнольд,[62] — обыкновенно говорил он себе, — а его жена бывала в восторге от меланхоличного, долго не затихающего рычания своего мужа, когда того что-то осеняло». Порою Сатклифф не знал, куда деваться от депрессии, и тогда отправлялся в город. За десять шиллингов и «Девонширский чай» покупал у Эффи мимолетную любовь, которая лишь усиливала его отчаяние и чувство одиночества. Эффи служила барменшей в «Трех перьях» и была вполне милой крошкой, очень непритязательной. Она и вправду была прелесть, вот только яблочный пирожок между бледных лягушачьих ляжек совсем остыл. Чувствуя себя виноватым за то, что сбивает ее с пути истинного, Сатклифф покупал ей подарки — она действительно была хорошей девушкой, а не шлюхой. Ее часто донимал цистит. Однако этот городишко, эта монотонная жизнь, дождь и местные жители могли довести и не до такого. Его совершенно покоряла одна ее привычка: как она оттопыривала мизинчик, когда с показным аристократизмом бралась за чайную чашку… Она и в постели вела себя так же, видимо, желая облагородить аристократизмом любовный акт. Это приводило Сатклиффа в восторг. По какой-то причине, науке неизвестной, он всегда носил в кармане своих широченных брюк два презерватива. Они были очень дорогими, и он берег их исключительно для Эффи; после свидания Сатклифф тщательно их мыл и клал для просушки на каминную полку. На пакетике было напечатано слово «сверхпрочный». Эффи настаивала, чтобы он предохранялся, и на эту не столь уж великую заботливость отвечала ему искренне пылкими ласками. Ей нравился этот мужчина, который частенько обмораживал то уши, то пальцы, который порою с загадочным видом зачем-то крался на цыпочках неизвестно куда. Она бы, наверное, мечтала стать его женой, если бы он не был из джентльменов.
Как учителю Сатклиффу полагалась комнатка с камином и отдельным выходом во двор — и он страстно мечтал тайком привести сюда какую-нибудь женщину. Но кого? У него была маленькая, страдавшая астмой фисгармония, и экземпляр сорок восьмого опуса Баха, который он играл для собственного удовольствия, стараясь не очень шуметь. Отдыхая, он читал партитуры опер и ел яблоки, время от времени морща лоб и издавая мелодичный рев, когда оркестр должен был бы играть на полную мощь. Постепенно, незаметно для него самого, у него зрел план написать новую биографию Вагнера. А почему бы и нет? Иногда во время прогулок он видел на горизонте темную движущуюся точку, которая то расширялась, то исчезала, то появлялась вновь. Корабль! Сатклифф размахивал зонтиком и кричал «ура». Монотонность провинциальной жизни, возможно, неплохая пища для поэта, а если у человека нет талантов? Иногда Сатклиффу становилось до того одиноко, что он готов был поджечь собственную кровать. Вероятно, сестра Роза страдала из-за того же, не исключено, что еще сильнее, потому что приехала в Англию из какого-то неведомого края. Она была хорошенькой, со смышленым личиком, светленькая мулатка. Когда он перехватил в церкви ее изучающий взгляд, она густо покраснела. Сатклифф улыбнулся, она тоже улыбнулась, и он сразу понял, что ее весна не в далеком прошлом. В тот день что-то случилось в шестом классе, и его вызвали к директрисе, которая прямо спросила, правда ли, что он «преподавал» ученицам Малларме?
— Сделал обзор соответствующего периода, — ответил на это Сатклифф.
Матушка-настоятельница подняла белый пальчик и произнесла:
— Мистер Сатклифф, я знаю, что могу положиться на вас, ведь вы не допустите ничего слишком французского и непристойного. Мы доверяем вам настолько, что вручаем вам шестиклассниц. Ведите их по беспорочным стезям, даже если вам придется лишь упоминать классиков вместо того, чтобы заниматься ими подробно.
— Вы имеете в виду цензуру?
— Да, можно сказать и так.
— Отлично, — мрачно проговорил Сатклифф и удалился.
Он уже подготовил препарированного Малларме — для подобной оказии. «Le chien est triste. Hélas! Il a lu tous les livres,[63]» — написал он на классной доске. Чем плохая тема? Англичане, обожающие животных, наверняка пожалеют бедного песика. Однако он нюхом чуял беду. Здешние праведники терпеть не могут свободолюбцев. Он размышлял об этом, когда… Впрочем, это требует отдельного параграфа.