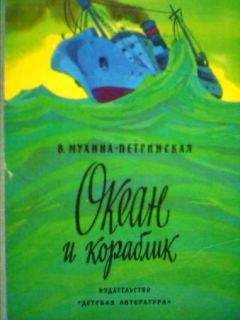— Что же будем делать? — спросил он уныло.
— Расставаться, Василий. Не могу понять, зачем тебе именно я?
— Ты меня освежаешь, как утро, как ветерок, Таиска! Не представляю, как я буду жить без тебя… Я бы мог обмануть… Прикинуться дурачком. Но учти, я тебя не обманывал никогда. Я — весь тут! Полюби меня черненьким, а беленького всякая полюбит.
Я не выдержала и заплакала.
— Ну, не плачь, я завтра уеду. Все-таки я еще буду ждать тебя год, два, три… не знаю сколько. Подумай! Потом, наверно, женюсь. Если решишь — позови меня.
— Я… не позову.
— Ну, ладно, не плачь. Завтра ведь уезжаю. Чего еще там! Разве я тебе причинил зло?
— Нет. — Слезы у меня так и лились. Носовой платок я оставила в сумке и вытирала слезы подолом широкой юбки.
— Зачем ты юбкой-то? Эх! — Он вытащил носовой платок и сам вытер мне слезы со щек и подбородка.
Мы долго сидели, обнявшись на прощанье. Шумели на ветру сосны. Василий рассказывал о своих ребятишках, о работе, о людях, которые его окружали. По безмолвному договору мы не касались больше острых тем.
Когда он далеко за полночь собрался уходить, я неожиданно для себя сказала:
— Если хочешь, оставайся до утра. Это ведь не имеет значения.
Он с любопытством посмотрел на меня и вдруг улыбнулся добро и хорошо. Мы стояли посреди комнаты.
— Какой щедрый дар! Жалко меня стало! Ты добрая, Таиска. Но я в милостыне не нуждаюсь. Да и жаль тебя. Знаешь, Таиса, что-то есть в тебе от Дон Кихота — беззащитное, ранимое. Потому я никогда не мог тебя обидеть. До свидания. Не говорю — прощай. Не поминай лихом. — Он низко, по-деревенски как-то, поклонился.
— До свидания, Василий!!!
Я проводила его до дороги. Он ушел.
Третья неделя на исходе. Река, быстрое течение, холодные брызги, солнечный блеск, ветер, рябь, отражение темных кедров в воде, острые камни, песчаные перекаты, водоросли на дне, мелькание рыб, тени от птиц, прозрачное небо, белые и холодные, как сугробы снега, облака.
Мы загорели, обветрели, похудели, ладони в мозолях. Кузя и я у передней греби, наш лоцман Григорий Иванович Стрельцов и Автоном Викентьевич Ярышкин у задней греби. Мария Кирилловна подменяет — чаще всего меня, иногда Кузю.
Рана Ефрема Георгиевича затянулась, и его отправили самолетом в санаторий. Там он поправится окончательно и наберется сил. Мария Кирилловна решила его проводить, но Пинегин, зная, как ей хотелось участвовать в экспедиции, отказался наотрез и уехал один. Даня остался у гостеприимной Франсуазы Гастоновны.
Интересные люди — рабочие экспедиции. Стрельцов — человек бывалый, про таких говорят: прошел огонь, воду и медные трубы. До революции он был десять лет на каторге за нечаянное убийство кума — в драке, «во хмелю». После революции ему дали десять лет за вооруженный грабеж. Был в какой-то банде. Они грабили прииски — намытое золото, приготовленное к отправке в жилуху.[1] Нападали обычно по дороге на станцию: железная дорога от города Незаметного километров семьсот или около того. Главарей банды расстреляли, а Стрельцов отделался десятью годами, да и те полностью не отсидел: отпустили по зачету, то есть за хорошую работу в лагере. После этого он бродяжил, искал золотишко в тайге, находил, прогуливал в жилухе и снова искал. Вообще всю жизнь «промышлял» в тайге.
Если б только бедная мама знала, с кем я еду! Но Мария Кирилловна уверяет, что он отличный проводник и лоцман; уже много лет ходит с разными экспедициями по тайге, а что касается прошлого, то он давно «завязал».
Григорий Иванович — высокий, жилистый старик с глубоко посаженными пронзительными голубыми глазами. В черных, как смола, волосах ни одного седого волоса, но густую бороду уже запушил иней. Это сильный и ловкий таежный волк. Лучшего лоцмана нам, конечно, не найти. Как он управляет плотом — залюбуешься! А управлять плотом на таежной реке не такое легкое дело. Правда, Ефрем Георгиевич сделал нам очень хороший плот: прочный, устойчивый, ходкий, с хорошей оснасткой, отлично управляемый. Я прежде думала, что плот — это просто несколько бревен, скрепленных вместе, а это— судно.
Посреди плота шалаш на случай дождя, перед шалашом очаг — камни, гравий, песок. Основной груз — продукты, одежда, спальные принадлежности, тщательно упакованные в рюкзаки и мешки, — мы разместили на грузовой площадке у задней подгребицы и накрыли сверху палаткой. Посуду, консервы, резиновую лодку и походную метеорологическую станцию мы привязывали у передней подгребицы. Середина плота вокруг очага свободна. Некоторые ценные приборы хранятся в шалаше.
За первые два дня мы научились хорошо понимать команду лоцмана.
— Нос вправо!
Я изо всех сих налегаю на переднюю гребь — плот смещается вправо.
— Ош!
Мы с Кузей разом прекращаем греблю.
— Гребь на плот!
Мы вытаскиваем гребь на плот и закрепляем специальными веревками.
— Сушить гребь!
Мы поднимаем гребь горизонтально и закрепляем петлей за рукоятку.
— Пошел!
Мы спрыгиваем с плота при швартовке.
Если я по неразумению своему и предполагала, что, спускаясь на плоту по Ыйдыге, можно любоваться пейзажем, то в первый же день путешествия убедилась, что это далеко не так. Сплав на плоту по таежной реке, конечно, полон неожиданностей и приключений, но прежде всего это тяжелый, очень тяжелый труд, осилить который могут, по выражению Стрельцова, лишь люди «первой категории здоровья». Перекаты, мели, завалы, подводные и надводные камни, скалы, валуны, буруны, пороги, шиверы, встречный ветер… Кроме здоровья, здесь нужна сноровка и опыт. А приобретение опыта — весьма трудоемкий процесс!
Но закончу про рабочих экспедиции. История Автонома Викентьевича Ярышкина произвела на меня потрясающее впечатление. Вы читали у Вашингтона Ирвинга историю о Рип-Ван-Винкле, проспавшем целых двадцать лет? Автоном Викентьевич — тот же Рип-Ван-Винкль!
На ночь мы останавливались у какого-нибудь песчаного островка или пологого берега, мужчины разбивали палатку — Мария Кирилловна и я спали на плоту в шалаше, — разводили костер, готовили ужин, а после ужина, невыразимо вкусного, еще беседовали с часок у костра. Вот я и спросила раз у Автонома Викентьевича, откуда он родом. Оказалось, земляк — москвич. Из Москвы только два года. Я оживилась.
— А где вы там работали?
— В Сергиевской лавре я служил, — простодушно ответил Ярышкин.
Я совсем запамятовала, что его в лесхозе звали расстригой, и удивилась:
— Не понимаю… кем?
— Разве вы не знаете, Таисия Константиновна? Я же расстрига. Сан у меня был священнический.
Кузя от удивления присвистнул.
— Простите… Вы — поп?
— Бывший… Я в прошлом году сложил сан.
Кажется, Кузя был шокирован. А на меня напал неуместный смех — едва подавила его.
— Автоном Викентьевич имеет университетское образование, — почему-то строго сказала Мария Кирилловна. — Его исключили с последнего курса, когда он почти закончил дипломную работу. Девушка, которую он любил, узнала, что он верующий, и сообщила в дирекцию. Она была очень принципиальная, ей только не хватало ума и великодушия. Мать Автонома Викентьевича — глубоко религиозная женщина, сын ее очень любил, всю ночь умоляла Автонома Викентьевича сказать, что он не верит. Но он не мог «отречься». Шуму было на весь университет. Никто не подозревал, что он верующий. Естественник, биолог!! Его исключили из университета, чем толкнули прямо в объятья церковников. Пострадал за религию, вы шутите! Сам епископ обучал его. Автоном Викентьевич и опомниться не успел, как его посвятили. И он…
Мария Кирилловна запнулась.
— Я пошел в монастырь, — сказал Ярышкин.
— Черт те что! — не выдержала я. — Как вы, культурный человек, можете верить во всю эту чушь?!
— Я ж теперь и не верю, — тихо возразил Ярышкин. — У меня уже прошло.
— Двадцать лет жизни! — с ужасом воскликнул Кузя.
— Двадцать пять… вроде из больницы вышел, — проронил Ярышкин упавшим голосом.
— Как же вы перестали верить — сразу или постепенно? — поинтересовалась я. Кузя пожал плечами — наверно, вопрос показался ему глупым. Но Ярышкин меня понял.
— Сразу! Конечно, подготавливалось постепенно, но произошло сразу, как отрезало. Однажды вечером я хотел молиться и не смог: вдруг стало некому… Я не спал всю ночь. Ходил по улицам Загорска, останавливался, смотрел на звезды. Я был растерян… Вера вдруг оставила меня. Вчера еще верил, сегодня нет. И больше не вернулось.
Утром надо было идти служить. Я же в Сергиевской лавре… а уже не мог. Сначала сказался больным. Надо было обдумать, что же мне теперь делать. И я принял решение: снял с себя сан и уехал сюда на Север, на Ыйдыгу.
— Почему именно на Север? Сами себя наказали ссылкой? — спросил Кузя.