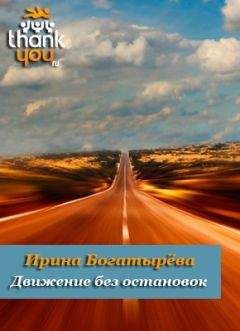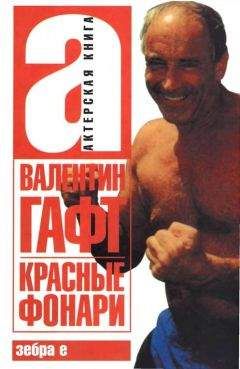— Всё вокруг — знаки, и ты можешь научиться их читать, — говорил, и мир открывался подобно гигантской книге, мир становился живым и огромным, он начинал пульсировать, дышать, звучать — и всё это вне меня, помимо меня, здесь и сейчас, рядом.
Ты учил меня доверять земле — ходить задом наперёд, не оглядываясь. Ты учил меня слушать и слышать, вглядываться и видеть, ты учил, что мир больше, чем мы понимаем и можем понять.
Как же ты не смог различить, приятель, таких простых вещей, как обычная женская любовь?
Они вдруг превратились во взрослых, невероятно взрослых и скучных людей, они превратились в гири на ногах друг у друга, ходили медленно, взгляды рассредоточены.
Третий день ждём Сорокина, отставшего где-то на трассе, живём с Настей в квартире, заваленной рухлядью и пропахшей ветхостью. В ней гнездиться глухая древняя старушка. Она перебирается по комнатам, как паук, ходит медленно и тихо, она не шаркает ногами, и кажется, что давно срослась здесь со стенами, растворилась в тенях, стала пылью на мебели, плесенью на потолке, чахлыми лампочками, книгами с выгоревшем переплётом, картинами, статуэтками, ветхими украшениями и убранством, сохранившими ценность только для своей хозяйки.
Наверно, сейчас этого человека нет на свете. Но мне кажется, что и тогда её уже частично не было. Все мы, поселившиеся на время в её квартире, старались не замечать этого существа, мы относились к ней так же, как к другим предметам там — осторожничая от их ветхости, стараясь не касаться лишний раз от брезгливости, не замечая из-за неактуальности, из-за того, что время этих вещей прошло, они совсем из другого мира, где нет и никогда не было нас. Как взгляд в прошлое через поблекшую, пожелтевшую фотографию. Когда я вспоминаю её, старушка для меня более живая, чем была тогда, когда я жила с ней рядом.
В её ушах звенит слуховой аппарат. Он звенит постоянно, очень высокими частотами, и чем громче звенит, тем тише мы говорим или замолкаем вовсе, потому что догадываемся: она подкручивает звук до максимума, чтобы лучше слышать нас, живых, молодых. Но нам жалко, неприятно, неохота делиться с этим существом, уже ставшем пылью, своей силой. Она ходит под закрытой дверью, ходит мягко и почти беззвучно, она ловит наши шорохи и дыхания.
— Настя, почему у вас тихо? Почему твои друзья молчат? Настя, ты же знаешь, я не выношу тишины, — говорит, наконец, входя к нам. Звон её наушников невыносим для моих перепонок.
В квартире сидеть невозможно, мы ходим гулять, но делаем это так, будто выполняем обязательство или тяжкий труд, ходим, наматывая по городу круги, пока ноги не отказывают носить. Гран и Настя разговаривают, идя рядом, глядя в асфальт. Я чувствую себя ребёнком по сравнению с ними, не могу ходить в их темпе, убегаю вперёд, катаюсь на качелях, бегаю за собаками, поднимаю в воздух голубей. Лицо Насти становится болезненным, когда я оказываюсь поблизости. Жалею её, стараюсь держаться поодаль.
— Кто на чёрточку наступит, тот и Ленина погубит, — бормочу детсадовскую присказку, ступая по плиткам тротуара так, чтобы не наступить ни на один шовчик. — Кто на трещинку наступит, тот и Гитлера полюбит, — усложняю себе задание и иду ещё медленней и осторожней: любить Гитлера в нашем детском саду не полагалось.
Но как бы медленно ни идти, всё равно их догоню.
— А чем ты занимаешься в обычной жизни? Когда никуда не ездишь, — долетают до меня вопросы Насти.
— Дорога — это моя жизнь… — любимый ответ Грана.
Я останавливаюсь, оглядываюсь, придумывая, чем бы ещё заняться.
— По маленькой дорожке за ножкой ставим ножку, — начинаю вышагивать по бордюру, расставив руки в стороны и подражая походкой канатоходцам.
— Ах, как ты изменился!
— Это естественно. Ты тоже стала другой.
— Нет, ты как-то совсем изменился.
— Мой поиск остался прежним.
— Ах, эти твои поиски, всё это так нестерпимо абстрактно!..
Я не хочу их слушать.
— Тррр, самолёт идёт на посадку, разрешите посадку, чартерный рейс Москва-Пекин… — с рёвом проношусь мимо, маневрируя меж прохожих, и за спиной слышу:
— Ах, это невозможно, это какой-то детский сад!
Чёрт побери, как будто б я её не понимаю! Да видит бог и все его добрые посланники, понимаю, но такова моя роль здесь — быть самой собой, быть Мелкой, это цель, с которой Гран тащил меня через всю страну. Вот только как сумел разглядеть он там, на рассветном бульваре во мне, сонной, мутной Мелкой человека, который одним своим видом будет выводить Настю из равновесия?
Она цепляется за него и не сводит глаз. Она уже обмерила, ощупала, взвесила его взглядом, изучила всего, чтобы найти отличия — Гран, каким она знала его когда-то, и Гран, какой он приехал сейчас, со мной. Со мной, такой странной, неразумной, безумной, инфантильной. Она смотрит и пытается понять, что общего у нас, как я могла появиться с ним рядом. Но никогда не спросит его об этом прямо. Поэтому я продолжу играть и доиграю свою роль до конца, — а там хоть трава не расти.
И Сашка Сорокин будет мне спасением.
Горы, лиственницы, болото. Никогда не думала раньше, что в горах бывают болота. Идём, глядя под ноги, видим только рюкзак того, кто впереди. Над нами — ветки и мрачное небо. Но если взглянуть дальше, увидишь за лесом, впереди, стенами скалистые хребты. На их вершинах — ледник; его не видно за тучами, но я-то знаю, что он есть. Потому ночами так холодно.
Дождь идёт третьи сутки, и скоро мы превратимся в грибы, покроемся мхом и плесенью и будем тут жить. Хочется не двигаться, замереть в палатке и спать, зарывшись с головой в тёплый спальник. Но Гран не даёт нам этого удовольствия, поднимает и заставляет снова идти вперёд, в дождь и слякоть. Он говорит, что когда мы идём, мы хоть как-то продвигаемся к цели, а когда стоим, только едим, а продукты кончаются.
Мы идём по болотам, по узкой тропе, не видим друг друга, не знаем друг друга — только спины под рюкзаками. Мы сгорблены, ноги хлюпают и чавкают в грязи. На привалах говорим мало, в палатках молча ложимся спать. Утром встаём, чтобы идти — и не видеть, не знать, никогда не узнать друг друга.
Иногда я вглядываюсь в её походку, в фигуру под рюкзаком, а на стоянках и привалах — в глаза. Вглядываюсь, желая понять. Но лицо всегда остаётся непроницаемым, как жёлтые бронзовые лица будд. Тело зажато и твердо, ноги ставит, почти не сгибая. Что она хочет, о чём мечтает — всё скрыто, запечатано, не скажет никому, вряд ли себе. Иногда, особенно при свете костра, мне кажется, что лицо её съёживается, заплывает в морщинах, и она становится похожа на ту, с пергаментной кожей старушку, у которой мы жили.
Тогда она вела нас в квартиру, встретив у вокзала, говорила много, без умолку, вспоминала своё время с Граном — когда-то, давно — у самой двери дошла до расставания.
— Мои знакомые, которые видели, как ты меня тогда на поезд сажал, потом спрашивали: «Это кто был? Он тебе друг? Любимый? Родственник? Гуру? Кто он тебе?» — говорила, вставляя ключ в скважину. Замок скрежетал: — Я им отвечала: «А всё сразу». — Подтягивая на себя дверь, обернулась, смотрела чётко мне в глаза и говорила в тот момент только для меня — больше потом никогда со мной не разговаривала: — Ну ведь так и есть, — и глаза закончили: «Ты знаешь».
Да, так и есть. И мы это обе знаем. Но раз это так, раз для нас обеих это так, почему нельзя нам быть друзьями, почему мы не понимаем друг друга, а ведём себя так, будто нам есть что делить, будто у нас есть что-то, что можем мы потерять? Нет, ни у кого из нас ничего нет, а Гран — это вольный странник, и если он вдруг пустит корни, я первая не захочу такого Грана знать.
Сашка Сорокин стал мне спасением. Он появился на мобильнике Грана так неожиданно, как появляются только с трассы. Тут же идём его встречать. Они идут, а я несусь со всех ног и прыгаю ему на шею, трусь о ежастую, рыжую щёку.
— Ой, ой, Мелкая, потише, я упаду.
Он качается под рюкзаком. Бессонный, пыльный, от него пахнет Якиманкой и трассой — точнее, пивом и сигаретами, но это одно и то же.
Гран с Настей подходят с достоинством. Сашка, чуткий к чужим настроениям, становится тоже манерным и пожимает им руки. Идём в квартиру неспешно, а я кручусь вокруг него, как собачка, приговаривая:
— Наконец, наконец ты приехал, я тебя ждала, так ждала, а тут творится такое, ну да ты увидишь, ты всё сам поймёшь.
Небритый, с голодухи от еды опьяневший, Сорокин сидит, сутулясь, на кухне и взахлёб рассказывает о своих трассовых мытарствах. Даже ушные раковины старушки притихли: ей Сашку и из комнаты хорошо слышно, так громко и вдохновенно он говорит.
Через месяц, когда мы потеряемся и нас уже будут искать, эта старушка расскажет милиции, что мы наверняка секта, а тот рыжий и небритый у нас за старшего, потому что мы его несколько дней ждали и всё это время молчали.