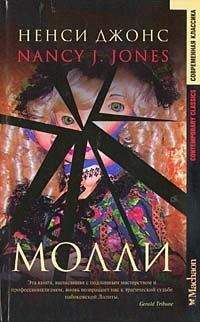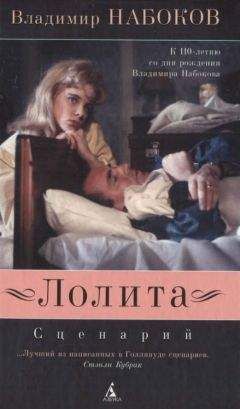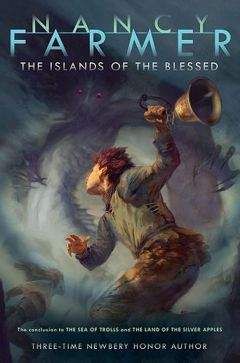– У тебя красивые руки, – сказал Бобби; моя рука оставалась в кармане его пиджака, и он крепко сжал ее. Большим пальцем он гладил мою кисть, медленно, ритмично, словно желая меня загипнотизировать.
– Слишком большие, – ответила я. – Но для баскетбола это очень хорошо.
Может, он и попытался бы меня поцеловать, когда провожал в тот день до дому, но я решительно протянула вперед свою слишком большую руку и твердо пожала его ладонь.
– Спасибо. Мне было очень весело. – Ну и глупости же я говорю!
– Ну что ж, спокойной ночи, – вздохнул Бобби. Из всех мальчиков в классе только он был достаточно высоким, чтобы смотреть мне в глаза, и он смотрел в них долго, не выпуская моей руки.
– Мне надо идти, – сказала я. – Меня родители ждут. – И я постучала в дверь.
Собственно, я чувствовала себя в своем теле уверенно только на баскетбольной площадке, когда бежала к корзине с мячом, подпрыгивала, крутилась, резко двигала запястьем, а мяч летел, вспарывая воздух, и с удовлетворенным вздохом проходил через сетку. Тогда я вытирала пот, заливавший глаза, и позволяла себе роскошь вспомнить дни, проведенные с Молли.
Но я так и не закончила сезона, так и не вернулась на баскетбольную площадку. Проведя в постели две недели, я так и не выздоровела. Горло у меня распухло и покраснело, все суставы болели. Но сердце болело еще больше. Я дочитала дневники Молли. Ее история казалась одновременно и необъяснимой, и неизбежной.
Дневники напомнили мне записки Анны Франк – не по тону, а по выводам. «Это очень трудно, – писала Анна меньше чем за месяц до того, как ее схватили, – но в наше время все вот так: идеалы, мечты, цветущие надежды живут внутри нас только для того, чтобы их разбила суровая реальность».
Я стояла лицом к лицу не только с суровой реальностью Молли, но и со своей собственной. Доктор Уилсон поставил мне диагноз: ревматическая лихорадка. Меня положили в больницу, и я целыми днями лежала в кроватке со стенками в детском отделении больницы Святого Франсиса в Чикаго. Дети в соседних кроватках кашляли, слабели. Одна девочка умирала от таинственной болезни, глаза у нее все время были горящие и влажные, словно она уже увидела Рай и ждала только того момента, когда сделает свой последний тяжелый вздох.
Я никогда не видела смерть так близко, так конкретно. Братишка Молли казался больше святым, чем человечком из плоти и крови, смерть ее отца – ужасной, но вовсе не невероятной трагедией. А жертвы войне приносились так далеко… Правда, Анна умерла в Берген-Бельзене, но ведь это в Соединенных Штатах Америки, а не в нацистской Германии. Как могла Молли умереть? А как вот эта девочка в кроватке рядом с моей?
Меня перевели в отдельную палату, где стены были окрашены в зеленый цвет стручковых бобов. Медсестры с нарочито бодрыми улыбками и голосами мерили мне температуру, брали кровь на анализ, взбивали мне подушки. Отец Фарлей, серьезный и горбатый, сидел у моей постели и читал Двадцать третий псалом, а я думала о Бет из «Маленьких женщин»: «Да, хотя я иду по аллее, на которую падает тень смерти, я не стану бояться зла».
Я тоже могла умереть. Я смотрела в окно на скучное зимнее небо, на бледное, холодное солнце. На подоконнике стояли корзины с цветами и фруктами, карточки от Нелли Триллинг и всей нашей компании. И почему мне раньше казалось таким важным непременно бегать по площадке и забрасывать в корзину мяч?
В конце сезона Нелли пришла навестить меня и принесла серебряный приз, выигранный командой.
– Команда решила, что это должно быть у тебя, – сказала она, ставя приз на небольшой столик возле моей кровати.
Я подумала, что мне он совсем не нужен, и улыбнулась. Для этого мне понадобилось сделать над собой огромное усилие. Сколько мускулов надо напрячь, чтобы улыбнуться? Двадцать три?
Она тоже неуверенно улыбнулась и достала записную книжку.
– Бобби Бейкер просил передать это тебе, – и она протянула мне конверт. Это была записка – снова Двадцать третий псалом. Они все думали, что я умру.
– Я думаю, он пригласит тебя на прогулку. – Нелли сложила руки на коленях.
– Мы не в церкви, – отвечала я. – И я не хочу идти на прогулку.
– Я знаю, ты чувствуешь себя ужасно – быть запертой в этой комнате! – и она вспыхнула, словно смутившись от своей бестактности: говорить этого не следовало.
– Мне нравится эта комната, – заявила я. – Я хочу провести здесь всю жизнь. Если мне никто не мешает, я могу весь день читать, – и я указала на груду книг на ночном столике.
– Ох, Бетси, – отвечала Нелли, глядя в стену над моей головой. – Ты выздоровеешь, выздоровеешь. Мы все за тебя будем молиться.
Но я не выздоровела.
Бабушка Кеклер и мама выехали из своих гостиниц и поселились в коттедже маминых друзей в Чикаго. Они приходили ко мне каждый день. Бабушка штопала носки или читала в оригинале Симона де Буве. Мама читала «Чикаго Трибюн» или слушала по радио отчеты сенатора Маккарти.
– Гм, – говорила она. – Единственный человек в Вашингтоне, у которого есть мужество, – это Маргарет Чейз Смит. Все остальные просто дураки и трусы. И вовсе не коммунизма они боятся – они не могут смириться с мыслью, что женщины и рабочие приобретут реальную власть. – Маме все еще хотелось, чтобы президентом выбрали Айка Эйзенхауэра.
Но меня ничего не интересовало, и на ее тирады я не обращала никакого внимания.
Первый раз в жизни я лишилась аппетита и начала терять в весе. Пытаясь меня соблазнить, мама и бабушка приносили мне суп вонтон и яичные блинчики из нашего любимого китайского ресторана «Золотой дракон». Я всегда любила китайские маски и украшения из слоновой кости, висевшие там на стенах, любила чувствовать в своих пальцах теплые деревянные палочки. Я научилась ими пользоваться, когда мне было всего семь лет – мы тогда в первый раз пошли в «Золотой дракон» после поездки в зоопарк в парке Линкольна.
– Миссис Ли послала это тебе, – и мама протягивала мне сверток с изумительным печеньем. – Она говорит, они приносят удачу.
Я попробовала суп и отодвинула тарелку. К яичным блинчикам я даже не притронулась.
– Когда я смогу вернуться домой? – спросила я.
Годом раньше мама победила на конкурсе фотографов в Коламбия-колледж. Одна из ее фотографий запечатлела нас с Молли в десятилетнем возрасте: мы сидим на ступеньках крыльца. Сдвинув головы, с грязными коленками, и внимательно рассматриваем саламандру, которую нашли под крыльцом. Мама принесла мне отличный большой отпечаток, чтобы я могла повесить его над кроватью. Мне казалось, что я все еще чувствую гладкую и холодную кожу саламандры и мягкие, липкие шажки ее лапок по моей руке, по моей коже.
– На следующей неделе, – ответила мама, расправляя юбку. – Но ты не сможешь пойти в школу. Мы будем учить тебя дома, бабушка и я. Твое сердце… – ее голос оборвался, – Доктор Уилл зайдет попозже поговорить с тобой.
– Я не хочу разговаривать с доктором. Я не хочу больше ни с кем разговаривать, – и я смяла так и не открытый пакетик с печеньем.
– Возьми себя в руки, Бетси, – мама положила свою руку на мою.
– Я не хочу брать себя в руки. – Я высвободила руку и уткнулась лицом в подушку. Она пахла отбеливателем и антисептиком, но ничто не могло перебить запаха ужасных предчувствий, запаха поражения, наполнявшего комнату.
Днем я уже знала всю правду. Я останусь жива, но сердце претерпело необратимые изменения – митральный клапан не способен выполнять свои функции. И если я даже захочу этого, мне уже никогда не пробежаться по баскетбольной площадке с мячом в руке. Итак, я была наказана, но меня это не удовлетворяло. Образование, колледж, юриспруденция – все это казалось мне бессмысленным и абсурдным.
В последующие дни я очень много читала. Я рыдала над «Тэсс» Томаса Харди, и, как и ей, петля на шее представлялась мне избавлением. «Это счастье не
могло продолжаться долго. Это было слишком», – сказала она, прежде чем ее повесили.
Может быть, Молли было лучше, чем мне. По крайней мере, она покоилась с миром, а я была приговорена жить со знанием о ее судьбе, со знанием о том, что доверять слишком сильно и любить слишком свободно – значит погибнуть.
Только «Метаморфозы» Овидия предлагали решение: Дафна, убегая от Аполлона, становится лавровым деревцем; Ио, обиженная могущественным Юпитером, превращается в корову; Сиринкс, хранивший верность Диане, становится свирелью Пана. – Я была высокая, словно деревце, мои растопыренные пальцы напоминали лишенные листвы ветки, но даже это казалось недостаточным, чтобы защитить меня. К тому же сейчас мое сердце сделало меня особенно беспомощной.
К моему возвращению домой мама сшила мне красный шелковый халат по выкройке, которую ей дала миссис Ли. Два кармашка, встреченные в шов, были оторочены золотистой тесьмой и вышиты китайскими иероглифами, которые означали «счастье» и «долголетие».