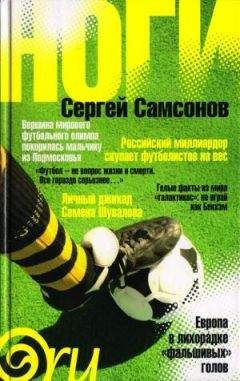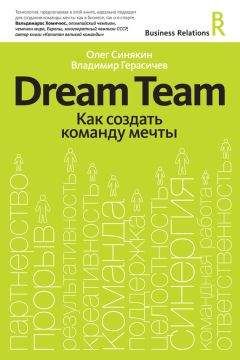Шувалов пожал плечами, но на этот раз промолчал. Они спустились в просторный холл, где был оборудован бар. Атташе шел следом.
Плюхнувшись в кресло, Семен вооружился пультом и включил огромный телевизор. Тут же раздался рев — транслировали какой-то европейский футбольный матч. Шувалов, казалось, совершенно забыл о присутствии дамы.
Атташе распорядился насчет эспрессо и минеральной воды.
— Только помните, о чем я вам уже говорил! — предупредил он, прежде чем попрощаться. — Деньги — запретная тема, и разговоры о суммах контрактов непозволительны, потому как являются частью внутренней жизни клуба.
— Да, я все прекрасно помню. Спасибо. Послушай, Семен, тебя ведь Семеном зовут? — Полина сменила интонацию и попыталась говорить с Шуваловым как взрослая с неотесанным мальчишкой-грубияном.
— С утра вроде был Семеном, — отозвался он, не отрываясь от экрана. — Ну чума, а не команда! — неожиданно прокомментировал он с нескрываемым восторгом. — Как расставляются, как движутся, ощущение такое, что на поле… невидимая паутина. Они не теряют друг друга из виду. Чувствуют друг друга постоянно. И расстояние тут ничего не значит! — Но, кинув взгляд на Полину, Шувалов тут же насупился: — Только не делайте вид, что вам все это страшно интересно.
— Что интересно?
— То, о чем я говорю.
— Интересно! — Она изо всех сил пыталась изобразить самое что ни на есть серьезное и искреннее внимание. — Но я пока что не очень хорошо понимаю…
— Ну еще бы! — хмыкнул Шувалов. — Вы там в своих буковках, в книжках понимаете… Ну, там еще в фильмах, спектаклях, музыке. А это для вас только так — двадцать два идиота гоняются за одним мячом. Не для ваших это мозгов, если хотите знать. И мало для чьих мозгов вообще. Потому что тут надо думать быстрее, во сто тысяч раз быстрее, чтобы чувствовать всю эту красоту. Да чего тут вообще говорить?!
— Нет, ты говори, Семен, говори. Какую красоту ты чувствуешь?
— Да разве это объяснишь? Здесь либо врубаешься с самого начала, либо нет. Вот тут нас двадцать два человека, и вы что же, думаете, все они понимают? Они в эту игру играют и то не понимают. А!.. — отмахнулся он. — Про это нельзя говорить.
Вот это его неумелое и явно ему не свойственное «вы» производило трогательное впечатление. Он вообще был гораздо уязвимее и беззащитней, чем могло показаться в первую минуту. Но поразительное дело: неуклюжий, не умеющий изъясняться, он вдруг предстал перед ней далеко не слабоумным… он тоньше оказался. Оказывается, он еще и думал — и это прозрение было для нее равносильно открытию закона всемирного тяготения.
— Значит, об этом ты говорить не хочешь?
— Почему? Можно и поговорить. Только я не знаю, зачем вам это нужно. Статейку напишете?
— Ты рассказывай, о чем хочешь и в каком угодно порядке, а потом решим, напишем или нет.
— Метать бисер перед свинь… — Он осекся, осознав, что выпалил слишком очевидную грубость, но его лицо как будто против воли все же исказилось гримасой отвращения.
— Ну, не хочешь… не хотите, так и не надо, — заторопилась Полина.
— Представь, все люди — одиночки, ведь по большому счету это так, — неожиданно сказал он, переходя на «ты». — Можно сколько угодно разговаривать друг с другом, трепаться о том о сем. Но это ничего не меняет. Люди все равно остаются одиночками. И пусть они будут друг другу отцом и сыном, мужем и женой, но все равно до самой глубины, до дна другого человека не достанешь. Я один раз представил: вот каждый из нас находится в своей клетке. Этих клеток не видно, они прозрачны, но тем не менее они есть. Захочешь потрогать соседа, и рука твоя упрется в невидимую стену — все, дальше хода нет. И я представил себе поле, целое пустое поле, заполненное этими клетками, и в каждой из них сидит по человеку, и все они кричат, но их не слышно, и поэтому они начинают показывать друг другу какие-то непонятные знаки. Вот эти непонятные знаки и есть так называемое человеческое общение. Ну, вот не могу же я знать, что происходит в твоей голове в эту самую секунду. И никто не может, и никогда не сможет. Огромная пустота, и весь мир поделен на прозрачные клетки. А теперь представь, что это самое поле становится полем нашей игры. И всё — все эти проклятые клетки разрушаются, и от одного человека к другому протягиваются невидимые нити. И все мы начинаем понимать друг друга, без жестов, без слов. Когда я играю, я начинаю чувствовать, что происходит в голове другого человека вот в эту самую секунду. Потому что в моей голове происходит то же самое. Мы видим один и тот же узор, мы видим один и тот же рисунок атаки, он не может быть никаким другим, он только такой, каким мы его видим. Когда я в школе был, я там вообще-то очень плохо учился, но один раз нас водили в музей естественных наук, и там показывали опыт: опускали в воду в какой-то очень маленький кристалл, и он начинал строить сам себя. И скоро из него вырастал целый мир, много-много других кристаллов, и все они соединялись друг с другом в очень строгой последовательности… Получается красота, правильная, строгая, и эту красоту уже ничем не искривишь, не испортишь. Так вот, моя игра — это красота… — Шувалов запнулся. Полина растерянно уставилась на него.
Он был из тех психов, из тех сумасшедших. Точно такой же, как и те немногие люди, которых она боготворила, потому что по воспитанию своему, по направлению всей своей жизни должна была их боготворить. Она привыкла называть их высокопарным словом «творцы», и то, что он говорил сейчас, уместнее было бы слышать из уст джазовых импровизаторов, поэтов, художников. Тем это полагалось говорить, и, выслушивая путаные и сбивчивые признания в том, что не они играют и пишут, а ими играют и пишут, что время неоднородно, что существует особое, творческое время и что в одну секунду зачастую умещается вообще все, что может испытать человек за целую жизнь, она испытывала возвышающее чувство своей причастности, приобщенности к стройности, красоте, гармонии великого искусства, к неслышимой музыке сфер… Его игра оставалась для нее малопонятной возней с острым, раздражающим запахом мужицкого пота.
— Ну чего вы на меня так смотрите? — спросил Шувалов. — Почему у вас такое лицо? Как будто я говорю о чем-то таком, чего в природе нет и быть не может? Вот она, кстати, эта самая прозрачная стена. Что толку от того, что я тут перед вами распинаюсь? Вы меня слышите? Понимаете? Или хотите другое услышать. Про то, как я живу? Про то, что ем? Про мой упорный труд, про то, как я выбился из грязи в князи, про то, какая у меня машина и какие трусы? Про то, как я жру разных там устриц и мидий? А может быть, про силу духа и волю к победе? И я вам отвечу: «Да-а-а, я много и упорно работал, потому что у меня была мечта, и теперь я надеюсь, что мой жизненный путь послужит примером для сотен и тысяч таких же парней, примером того, как важно иметь высокую цель в жизни и стремиться к ней». Я же знаю, я же заранее знаю все то, что вы хотите от меня услышать. У вас есть готовое представление, у вас есть готовый коридор для меня. И в том коридоре я должен быть героем, позитивным, веселым парнем и завидным женихом, потому что я стою хренову кучу денег и потому что угрюмых миллионеров с постной рожей в природе не бывает. Я должен быть в полном порядке, да? Я должен весь лучиться счастьем, потому что все хотят видеть это счастье и купаться в нем, так как своего собственного не имеют, — вот и живут чужим! И вы с этим ко мне пришли и с этим от меня уйдете. А потом, конечно, станете гордиться, как хорошо вы меня поняли. А ни хрена вы на самом деле не поняли и ничего про меня не объяснили.
— Ну, и про это я хотела бы услышать тоже, — отвечала она с растерянной и примирительной улыбкой. — Просто таковы правила игры. Но вы можете рассказать о том, о чем сами захотите.
— А неохота мне, — отмахнулся Шувалов. — Все равно никто ничего не поймет. Только будут пялиться как бараны на новые ворота — о чем, мол, это он? Где счастье, где купание в роскоши? Где его осуществленные мечты? Тьфу…
Шувалову принесли обед; безукоризненно вышколенный официант все мигом накрыл и расставил… и она не удержалась от чисто профессионального любопытства — в меню были борщ и немудреное на вид, явно предназначенное для набора дополнительной мышечной массы блюдо: так называемая паста — спагетти под густым мясным соусом. Он поглощал еду с совершенным равнодушием — постоянно одно и то же изо дня в день.
Он ел, а она ерзала в кресле. Разумеется, ни о каком продолжении разговора не могло идти и речи. Смотреть на то, как он работает челюстями, — нет, это было выше ее сил, и она принялась старательно возбуждать в себе чувство гадливости, представляя Шувалова самодовольным, беззастенчиво чавкающим хамом, ничего вокруг себя в упор не замечающим. Не больше того. Он ей попросту не интересен, не нужен. Ну, ведь мог бы нормальный, воспитанный человек вести себя хоть на йоту пристойней. Несмотря на то что «обеденная ситуация» все-таки предусматривала известную долю непринужденности, Шувалова она отчего-то не могла простить.