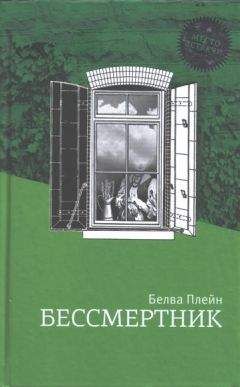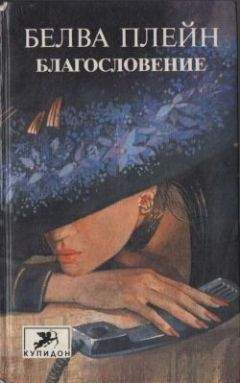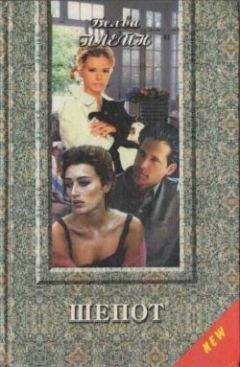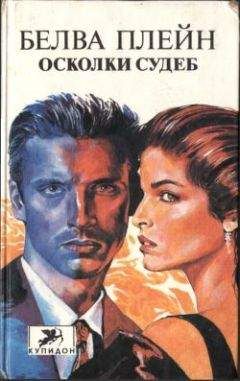Дойл имел множество всякой собственности. Например, дома на улице, где жил Джозеф. Иногда Джозеф передавал бумаги водопроводчикам, лудильщикам и другим мастерам, которые обслуживали эти обширные владения. Иногда он относил письма в бары и пивнушки или забирал оттуда толстые конверты, похоже — во всяком случае, на ощупь, — с деньгами. Он научился входить в питейные заведения без робости. Войдя, сразу спрашивал хозяина. Тот обыкновенно стоял за стойкой, в окружении блестящих бутылок с яркими этикетками, под фотографией голой женщины. Увидев такую картинку впервые, Джозеф изумленно вытаращился. А завсегдатаи бара, приметив, на что он смотрит, стали потешаться почем зря. Большинства их шуток мальчик не понял и оттого почувствовал себя неуютно и беспомощно. Ну и ладно, думал он про себя, смейтесь сколько влезет. А я получу полтора доллара! Полтора доллара за гулянье по городу с конвертиками!
Однажды мистеру Дойлу вздумалось поглядеть на его почерк. Положив перед Джозефом чистый лист, он сказал:
— Пиши! Что угодно, все равно…
Джозеф аккуратно вывел:
Джозеф Фридман, улица Ладлоу, Нью-Йорк,
Соединенные Штаты Америки,
Западное полушарие, Земля, Вселенная.
Дойл тут же забрал листок.
— Так, так, очень неплохо, — пробормотал он. — А как у тебя с арифметикой?
— Хорошо. Она мне легко дается.
— Ты подумай, какой молодец! А хочешь заняться арифметикой и чистописанием для меня? Как, не возражаешь?
Джозеф озадаченно молчал, и Дойл продолжил:
— Дело-то простое, вот смотри, объясню. Видишь эти два гроссбуха? Новенькие, чистенькие. Мне нужно, чтобы ты переписал сюда кое-что. Вот, например, такой список: тут фамилии, тут долла… цифры. Что за фамилии, что за цифры — не твое дело, тебе это знать необязательно. Просто списывай подряд, и все. А потом во второй гроссбух — фамилии те же, а цифры вот отсюда. Понял? Сможешь?
— Конечно смогу, сэр. Это просто.
— Только пиши очень аккуратно. Не торопись. А то ошибок наделаешь.
— Что вы, сэр! Не наделаю.
— Отлично. Это и будет отныне твоей работой. Сядешь один, вон там, в соседней комнате, чтобы тебя не отвлекали. Как закончишь, отдашь гроссбухи лично мне в руки. И еще одно… Джозеф, ты ведь хороший, религиозный мальчик, да? Ты исправно ходишь в синагогу, никогда не врешь, верно?
— Нет, сэр, то есть да, сэр… Я не вру.
— Ты ведь знаешь, что Бог наказывает за дурные поступки?
— Да, и папа так же говорит.
— Ну, вот видишь. Значит, я могу рассчитывать, что, дав слово, ты его сдержишь. Запомни! Никогда никому не рассказывай о том, что пишешь. Даже не упоминай эти гроссбухи. Пускай это останется между нами. Государственное дело, понимаешь?
Дойл был доволен его работой. Так говорил Вульф. А оказавшись как-то по делам на улице Ладлоу, Дойл зашел в магазин, к родителям Джозефа.
— Ваш сын — очень сообразительный мальчик. И на него можно положиться. Редкий мальчик! Другие наобещают: приду, поработаю, — а сами заиграются, забегаются и забудут. Целыми днями бьют баклуши!
— Джозеф хороший сын, — сказал папа.
— Куда вы его прочите? На кого хотите выучить?
Отец пожал плечами:
— Не знаю. Мал он еще. В школу пускай ходит. Потом может поступить в колледж. Только у нас нет денег.
— Из него выйдет первоклассный бухгалтер. А деньги на ученье для такого смышленого паренька всегда найдутся. Когда придет время, я о нем позабочусь. Он, пожалуй, и Нью-Йоркский университет у нас окончит! За мной, как за каменной стеной!
— Мало ли, что он тут наболтал, — сказала мама вечером. — Может, все это пустое, чтоб родителей ублажить. Знает ведь, что родителям приятно, когда сына хвалят.
Но Вульф говорил совершенно обратное:
— Он тебя очень ценит. И свое слово сдержит, увидишь. Раз хочет выучить тебя на бухгалтера, значит — выучит. У него сказано — сделано. И денег всегда сколько надо даст.
Джозефу было любопытно, что делает для Дойла сам Вульф. Вокруг хозяина крутилось великое множество народу, и не разберешь, в чем состоит их работа. Некоторые были связаны с полицией и пожарным управлением, другие имели отношение к строительной инспекции или адвокатским конторам, третьи занимались недвижимостью Дойла или предвыборной кампанией. Короче, начнешь разбираться — еще больше запутаешься. Вульф жил вдвоем со старшим братом, был всегда очень прилично одет, и у него водились деньги. Но спросить напрямую, как он их зарабатывает, Джозефу даже в голову не приходило. Вульф держал дистанцию. А может, и не держал, просто чувствовалось в нем этакое: «Не подступись!»
У Джозефа был лучший друг, Бенджи Баумгартен. Они ходили вместе в школу и из школы, в синагогу и из синагоги, сидели за одной партой и доверяли друг другу мальчишеские тайны. Бенджи давно интересовался Вульфом, Дойлом и работой Джозефа.
— Что ты там делаешь? — спросил он однажды особенно настойчиво.
— Бумаги разношу. И пишу кое-что.
— Что за бумаги? И что ты пишешь?
— Деловая переписка. Секретная, — важно ответил Джозеф.
— Идиот! Еще бы не секретная! Небось тайные делишки с правительством или с самим президентом!
Бенджи, конечно, завидует. И Джозеф свысока, но терпеливо объяснил другу:
— Понимаешь, я бы с радостью рассказал, но я дал слово. Ты же не хочешь, чтобы я нарушил клятву?
— Нет…
Они сидели на ступеньках, ведущих в подвал дома одиннадцать, пустого дома неподалеку от родительского магазина. Из обреченного на слом здания все жители уже выехали; теперь его — об этом знала вся округа — облюбовали бродяги, они спасались в цокольном этаже от зимних морозов.
Друзья нарочно уединились в заброшенном доме: Бенджи притащил жевательного табака — они намеревались попробовать его впервые в жизни.
— Слушай, там ведь табличка висела: «Не входить! Карается законом», — шепнул Бенджи. — А вдруг нас застукают?
— Ерунда. Кстати, если хочешь знать, владелец этого дома — мистер Дойл. Ну, во всяком случае, совладелец. Он не рассердится. — Джозеф преисполнился гордости.
Они сидели под лестницей и жевали, чувствуя подступающую тошноту и боясь в этом признаться, как вдруг скрипнула наружная дверь и в подъезд проник свет уходящего дня. В проеме возник Вульф Харрис с канистрой в руках.
Мальчики вжались в стену и затаились. В канистре была какая-то жидкость, Вульф выплескивал понемногу там и сям, бродя меж пустых коробок, пачек старых газет и сломанных детских колясок. Когда канистра опустела, он тихо скрылся, притворив за собой дверь. По лестнице поползли керосиновые пары.
— Как думаешь, зачем он это сделал? — прошептал Бенджи. — Вот пойду сейчас, догоню и спрошу.
— Заткнись!
— Почему это?!
— Потому. Вульф велел вообще никогда его не окликать, пока он сам тебя не окликнет, первым. Не заговаривать с ним на улице, особенно если он не один.
— Вот интересно! Почему?
— Я не спрашивал.
— Ты его боишься?
— Немножко.
— Еще бы. Он ведь жестокий, этот Вульф. Однажды — я сам видел — он избил одного парня до полусмерти, нос ему сломал. Кровь хлестала как из ведра.
— Ты мне никогда не рассказывал!
— А теперь вот рассказал. Так оно и было.
— Верю.
— Почему ты работаешь на Дойла?
— При чем тут Дойл?
— Ни при чем. Просто я спросил.
— Работаю, потому что нам нужны деньги, идиот ты этакий! — Джозеф решил не упоминать про свое бухгалтерское будущее. Бенджи ему друг, но такими мыслями и с другом делиться не след.
— Я как вижу Вульфа — сразу мурашки по коже, — сказал вдруг Бенджи.
— Да заткнись ты, наконец!
Джозефу стало не по себе. Рот свело от едкого табачного сока.
— Я иду домой, — сказал он.
Пожарные сирены разбудили их среди ночи: сирены и шум толпы за окнами. Джозеф с родителями наспех оделись и тоже вышли на улицу. Горел дом одиннадцать. Ветер, дувший с Ист-Ривер, раскручивал по небу ленты густого дыма. Внутри здания что-то трещало, взрывалось; огонь переползал с первого этажа на второй, на третий. В окнах третьего этажа виднелись лица, руки — протянутые, молящие о помощи.
— Бог мой! В доме полно бродяг! — воскликнула мама. — Им оттуда не выбраться!
Не выбраться. В преддверии холодов бывшие жильцы наглухо заклеили и заколотили окна.
— Боже мой… — повторил папа. — Бедняги.
Полыхало всю ночь. Казалось, пламя прогрело стылый зимний воздух по всей улице. Но вода из пожарных шлангов все же замерзала на тротуарах. Лошади, тянувшие бочки, ржали, косились на огонь и били могучими копытами о землю. К утру пожар стих. От здания остались одни лишь наружные стены, обуглившиеся, неузнаваемые. Погибли по меньшей мере семь человек. К пепелищу стягивались все новые и новые толпы. Глазели сочувственно и скорбно.
Джозеф притих. Все уроки напролет он думал об одном: кому рассказать первому — отцу или мистеру Дойлу? Сначала отцу? Или прямиком — к Дойлу? Он очень хотел обсудить это с Бенджи, но друг в то утро в школу не пришел.