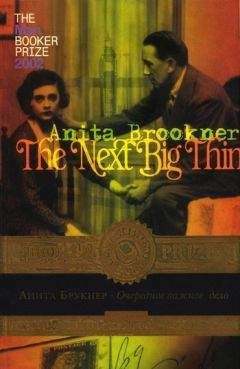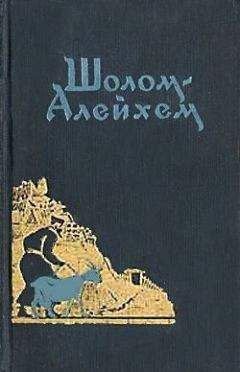Его прошлый отпуск едва ли годился на то, чтобы упоминать о нем в разговоре. Те тихие дни в маленьких городках, или даже в предместьях на конечных остановках автобусов, не приносили интересных анекдотов. В Амбуазе он подслушал, как большая семья обсуждала завещание какого-то родственника; в Отейле спокойно посочувствовал пожилому мужчине, направлявшемуся к врачу, но Герц был лишь наблюдателем всего этого, не участником, а что за отпуск без пылкого участия? И с недавних пор, когда что-то требовало больших перемен, он вспоминал о своей недолговечности: видение, где он лежал на земле, окруженный внимательными лицами, тут же возникало перед ним, и отогнать его уже не удавалось. Герц цеплялся за повседневные дела, хотя они ему надоели, и дни казались ему длинными. Но при этом он не ценил того, что другим могло бы показаться в общем-то завидным досугом. В его распоряжении было слишком много времени, и часто он стоял у окна, высматривая какие-нибудь признаки жизни на Чилтерн-стрит. У него не было аппетита, спать днем он пробовал, но тоже без особого успеха. Такая краткая дремота лишь возвращала прошлое, так что, когда он пробуждался с привкусом затхлости во рту, его цепляние за настоящее казалось ему ненужным ограничением, и решимость его слабела. Но все же этим долгим тихим дням было трудно не уступить, и хотя прикованность к сегодняшнему дню была опрометчивой, казалось, она уже стала привычкой, которая привилась сама собой. И если он так легко соскальзывает в сон в солнечные дни лета, как же он будет жить зимой, когда темнота приходит рано и внешний мир отступает перед ней?
Чтобы противостоять этому слишком символичному спуску в теневой край своего разума, он взялся гулять по вечерам, чтобы утомить себя и сделать отдых более оправданным, более простительным. После ужина (вряд ли это можно было назвать обедом) он выходил на Чилтерн-стрит и начинал хаотично блуждать по ближайшим окрестностям, надеясь поймать ветер жизни в свои паруса и создать себе образ этакого старого джентльмена, который мог бы понравиться окружающим. Но у него не было зрителей, только молодые люди в кафе пили пиво и смеялись или большими компаниями дружно поглощали пиццу. Никто не проявлял к нему ни малейшего интереса, когда он поднимался по Глостер-Плейс и спускался по Бейкер-стрит или даже добредал до Оксфорд-Серкус, в тщетной надежде найти городское общество. Его притягивал парк, но это было слишком далеко от дома, и он боялся, что его застигнут сумерки. Кроме того, он не знал наверняка, когда закрываются ворота парка, и со страхом представлял себе, что может оказаться взаперти и тогда придется провести ночь на скамейке, волосы растреплются, и он ничем не будет отличаться от обычного бродяги.
Эти вечерние прогулки его изнуряли и удовольствия не приносили. По этой ли причине или по какой-то еще он стал предпринимать более отдаленные экскурсии, хоть они и казались бессмысленными, не предвещая общения. Он совершенно изнемог от того, что приходилось постоянно терпеть одиночество, и все же знал, что при его характере уединенный образ жизни был единственно возможным. Он мог бы, набравшись немного храбрости, снова поехать за границу и сидеть иногда в странной немодной церкви или открыть для себя верхний этаж, обычно пустынный, практически заброшенного музея, и если бы он это сделал, как делал уже неоднократно, то несомненно получил бы некоторое удовлетворение от полученного опыта. Но тогда пришлось бы возвращаться в маленькую гостиницу, где суровая хозяйка вручит ему ключ без малейшей приветливости, по которой он истосковался, не станет расспрашивать его, как он провел день или куда собирается вечером, и он просто вынужден будет выйти снова, искать место, где можно поесть, будет сидеть за столиком в одиночестве и снова наблюдать за другими людьми. И каждый раз в потоке прохожих будет улавливать обрывки разговора, которые его заинтригуют, пробудят желание узнать больше, даже расспросить тех прохожих, которые на мгновение его отвлекли; тогда можно пережить еще не знакомую реакцию — раздражение? гнев? — из-за собственной неспособности участвовать в жизни, а скорее досаду, вызванную толстокожестью других, всех тех, кто озабочен своими собственными делами и не желает знать о его планах, предпочтениях и вкусах.
Честно говоря, по-настоящему он наслаждался лишь одним отпуском в своей жизни, и было это в восьмилетием возрасте. У него даже сохранилась фотография, которая это подтверждала. Он вместе с домашними в Баден-Бадене сидит в фиакре, который катится по Лихтенталер-аллее к «Казино», где их ждет кофе под звуки маленького оркестра. Он все еще помнил солнце, сияющее сквозь ветви высоких деревьев, и удивительного размера — удивительного для него в том возрасте — рододендроны, которые росли по обе стороны дороги. Он помнил, как величественно поскрипывал фиакр, когда они вровень с другими экипажами подъезжали к «Казино», и как должен выполняться неторопливый утренний ритуал. На фотографии, которую он изучил досконально, было смеющееся лицо ребенка и рука, сжимающая руку матери. Он видел, поскольку помнил уже плохо, что все у них благополучно, гладко и гармонично; рядом скромно пристроилась няня, вероятно брата, и Герц помнил, что ее звали Мари. Он знал, хотя ему недоставало непосредственности фотографии, что впереди их ждали прогулки по Шварцвальду, вежливый обмен приветствиями с другими прогуливающимися парами, давящая обстановка дорогого отеля, которая его так восхищала, сентиментальные мелодии, которые наигрывал оркестр «Казино», сигара отца, обильная трапеза, ужасная с точки зрения нынешних диетологов, множество разных докторов, преданных чужому здоровью и благополучию, которые прописывали лечебную воду вместо пилюль.
Того мира больше не существовало, а если он и был, то претерпел большие изменения; фактически он прекратил свое существование одновременно с окончанием его собственного детства. Человек более отважный мог бы вернуться, чтобы измерить эти изменения, но он не был социологом по натуре: ему нужен был тот мир, который отражен на фотографии, и смеющееся лицо, которое, сколько он себя помнил, смягчала уже только умеренная улыбка. Да и улыбка с возрастом стала иной. Улыбчивый мальчик стал вежливым взрослым; улыбка теперь была уже осознанной, словно от него ее ждали. Он продолжал предлагать ее, но не по убеждению. Это уже не была та лучезарная улыбка, но она вполне годилась для деловых отношений. Собираясь выслушать кого-нибудь или посочувствовать, он и хотел бы улыбнуться как раньше, но все время замечал, что улыбке не хватает радости. Ее, казалось, не осталось вовсе, она была уже просто чем-то эфемерным. Он с этим смирился, как смирился с расстоянием между прошлым и настоящим, и спрашивал себя только, есть ли в этом ощущении что-то необычное, и жалел, что выяснить это не представляется возможным. Разглядывая фотографию, он начинал чувствовать, что находится не в той стране. Думать на эту тему не хотелось. Его ситуация была банальна. Но иногда именно поэтому ее необычайно трудно было признать естественной.
Герц боялся стать таким же, как человек, которого он каждый день видел в универсаме (и который видел его) и кого, хотя он имел вполне благопристойный вид, все сторонились. Тот, казалось, вечно сидел на стуле возле контрольного выхода, с неодобрительным выражением лица, держа между коленей палку. То и дело он высказывал свои соображения относительно правительства всем, кто был готов его выслушать, и покрикивал на тех, кто не был готов. Его пытались оттуда убрать, но, поскольку находиться там никому не воспрещалось, попытки ничем не увенчались. Его обходили за километр, хотя он говорил, или, скорее, провозглашал, привлекательные вещи, поскольку говорил убежденно. Он фонтанировал критикой нравов, обвинениями в лицемерии, во лжи в адрес каких-то людей, облеченных властью, словно он выступал на улицах древних Афин в кругу впечатлительных юношей. Женщины не замечали его, хотя девушки на контроле, которые, по наблюдению Герца, часто менялись местами, либо устало соглашались с его словами, либо смеялись над ним без всякого стеснения, в зависимости от степени их доброты или общего настроения.
Для помешанного не находилось сообщника; не был его сообщником и Герц, хотя помешательство этого человека внушало ему такую жалость и жуть, какую может внушить трагедия. Герц отворачивался, проходя мимо, так как знал, что будет выбран доверенным лицом. В сущности, каждый выбирался доверенным лицом, но без успеха. Степень одиночества этого человека была, вероятно, не особенно заметна кому-то кроме тех, кто отворачивался от него, не в силах видеть собственное отражение. И при этом тот человек стильно, даже щегольски, одевался, значит, кто-то за ним присматривал. Без сомнения, любой прошел бы мимо него на улице и ничего необычного не заметил бы. Только в универсаме, где ему обеспечены были невольные зрители, он начинал бичевать пороки. Никто не мог уберечься от его неодобрения; доставалось всем. Самым пугающим в его нападках было ощущение, что они, в общем-то, заслуженны. Даже тем, у кого совесть была чиста, становилось неловко — не за себя, так за всех этих бичуемых министров. Почему не находилось желающих опровергнуть его обвинения? Где, собственно, были те министры, которые могли бы пролить яркий свет на сегодняшние проблемы? Ощущение неправильности и неправоты рождалось в непосредственной близости от этого человека, палка которого, казалось, вот-вот запляшет по головам, хотя этого никогда не случалось. Люди выходили на улицу с облегчением, имевшим мало общего с тем, какое возникает после успешного выполнения домашних обязанностей. Люди выходили на улицу с желанием обнять прохожих, погрузиться в успокоительную взаимность, отвлечься от бередящего душу зрелища не приспособленного к жизни человека, неспящей совести, которая, если ее не удержать, может привести к действиям, свидетелями которых они быть не хотят.