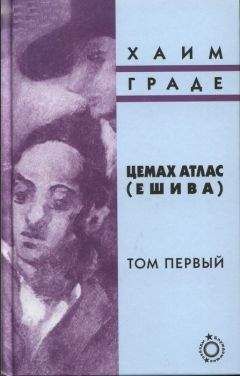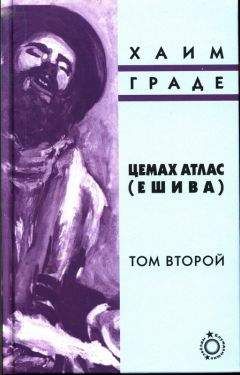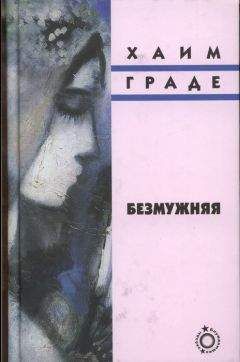Цемах говорил о своем плане так серьезно и уверенно, что Володя смотрел на него с восторгом. Потом он принялся вальяжно разъяснять деверю, что сперва дюжина учителей должна будет подготовить его, чтобы он выдержал гимназические экзамены. Потом ему придется учиться в университете, а еще позже — проходить практику в больнице, и лишь тогда Цемах станет начинающим докторишкой. До тех пор же его учеба обойдется в целое состояние, так что они с женой полностью проедят свою долю в наследстве.
Володя обещал сестре, что будет разговаривать с ее мужем мягко и деликатно. Но пошутить он может себе позволить? Цемах ведь не пружина и не лопнет. Володя рассказал ему о войнах ломжинских врачей. С одной стороны, мешаются старомодные лекари. С другой стороны, между собой конкурируют врачи из прежней России и выпускники нынешних польских университетов. В городе есть три известных врача. Пациентки отбрасывают их, как подгнившие яблоки. Один им не нравятся, потому что у него длинные усы, и эти усы влажные и пожелтевшие от табака. Второй, с острой бородкой, не нравится женщинам потому, что болтлив, как старая еврейка. Он расспрашивает о дедушках и бабушках, говоря, что должен это знать прежде, чем выписать рецепт. Третий, с лысиной, не нравится пациенткам, потому что носит кисти видения, а врач должен быть человеком современным. В еврейской больнице на Санитарской стоят на ступеньках молодые врачи в надежде, что их впустят хотя бы на месяц практики. В каждом городе крутятся десятки выпускников университета и ищут засидевшихся в девках невест с деньгами, чтобы иметь возможность открыть свои кабинеты и принимать больных. Эти молодые люди разговаривают на всех языках — по-польски, по-русски, по-немецки. Даже по-французски они разговаривают. И если бы Слава хотела мужа, окончившего университет, она бы могла найти их десяток по цене одного.
— Чего это тебе взбрело голову стать докторишкой? — улыбнулся Володя.
— Я думал, это наилучший путь делать добро другим людям.
— Ведь ты бы брал за свою работу деньги, чтобы было на что жить, так где же тут доброта?
Цемах растерянно и удивленно посмотрел на шурина. Торгаш задал ему сложный вопрос, подобающий мусарнику. Если он будет брать за лечение больных плату, то это не доброта, а корысть.
— Так за что же мне взяться? — вздохнул он.
— Ведь у твоей жены есть доля в нашем деле. Будешь работать вместе с нами. Тогда ты тоже сможешь помогать людям, которые должны попасть к врачу.
Ни о ком в Новогрудке не говорят с таким пренебрежением, как о лавочнике. Лавочник не может стать по-настоящему добрым, даже если из кожи вылезет. Его бог — это копейка, и он торгуется даже с Владыкой мира.
— Чтобы я стал лавочником?! — воскликнул Цемах в отчаянии.
— Я ведь тоже лавочник, — Володя не понял, почему его деверь так пришиблен, словно его заставляют стать попрошайкой и побираться по домам.
Разговор надоел Володе, и он тоскливо посмотрел на дверь: не появится ли его белая, как снег, пышнотелая Хана. От него шел пар, как от промокшего комка земли на солнце после дождя. Он потел от удовольствия и скреб под мышками.
— Но моя сестренка — горячая бабенка, а? — жуликовато подмигнул он, и Цемах ответил ему застывшим взглядом большой рыбы, вытащенной на сушу.
На следующий день после полудня Цемах спустился на склад. Слава с большими влажными кошачьими глазами ждала его возвращения. К вечеру ей пришло в голову, что пора уже стать самостоятельной хозяйкой. До сих пор свояченица Хана посылала к ней служанку с ужином. На этот раз Слава сама готовила, возилась на кухне, старалась. Когда Цемах вернулся со склада, он нашел дома уже накрытый стол. Однако он едва прикоснулся к блюдам. Жевал молчаливо и задумчиво. После еды он, опустив плечи, уселся в глубокое кресло у окна, как будто за эту пару часов на складе перетаскал целый вагон мешков муки. Слава легко присела на подлокотник кресла и положила руку ему на плечо.
— Как я вижу, хождение на склад для тебя мучение. Другие сочли бы это счастьем.
Цемах ответил, что его двоюродные братья действительно считают за счастье быть приказчиками у Ступелей. Они мелкие людишки, а их разум размером со зрачок селедки. Слава рассмеялась и спросила, почему он ставит себя на один уровень с приказчиками, ведь он компаньон.
— А что дальше? — мрачно спросил он.
— Дальше будет как у всех людей, — ответила жена и пересела с подлокотника к нему на колени, чтобы, опершись затылком на его грудь и задрав голову, посмотреть снизу вверх на его затуманенное лицо.
Его слова падали на ее волосы тяжело и медленно. Днем он будет говорить покупателям, что товар обходится ему дороже, чем они предлагают за него. Ночью он станет подсчитывать свои доходы и расстраиваться, что ему не платят или что ему нечем заплатить по предъявленным векселям, и во сне он тоже будет видеть муку и крупы. Сперва он будет молодым человеком и по субботам станет гулять с женой, толкающей перед собой детскую коляску. Позднее он превратится в состарившегося отца, имеющего неприятности от подросших детей. А что дальше?
Картина того, как она толкает детскую коляску, а муж шагает с нею рядом, Славе как раз понравилась. Однако до этого было еще далеко. Пока что ей хотелось, чтобы муж ее целовал, гладил. Она смотрела на него снизу вверх и крутила головой туда-сюда, чтобы ее волосы задевали его подбородок, нос и щеки. Своей тонкой спиной она вжималась в его грудь, а своим задом — в его живот, в его жесткие бедра, пока не ощутила, как его раздувающиеся ноздри пылко сопят над ней. Слава победно рассмеялась и проворно соскочила с его нагретых ее телом колен. Цемах увидел сзади на ее платье будто циркулем нарисованные круглые формы ее узкого зада и яростно обхватил ее руками. Однако она, дразня, вырывалась из его рук:
— А что дальше?
Ее губы с похотливой восторженностью вытянулись вперед, а глаза блестели, как у пьяного, словно она глотнула старого вина из бутылки и хочет как можно дольше сохранить на языке и в ноздрях его сладковато-терпкий вкус и запах. Напряженный и вытянувшийся во весь свой рост муж схватил ее в объятия и прорычал, что ради нее он станет и лавочником.
Повсюду на складе, куда бы ни поворачивал голову Цемах, до самого потолка лежали мешки. Ему казалось, что не только его лицо, руки и одежда побелели от муки, но и душа в нем стала уже мучной. Долго стоять в задумчивости ему не давали приказчики. Увидев, что он мечтает в задней части склада, растирая между кончиками пальцев щепотку муки, они бросались к нему. Старший приказчик вынимал из мешка пригоршню муки и показывал ему разницу между двумя сортами товара: перемолотая рожь даже после того, как проходит несколько раз через жернова, все еще жестковата и крошится. Пшеничная мука всегда желтовата и жирна, тонка, как шелк, и мягка, как бархат. Средний из двоюродных братьев Цемаха учил его разбираться в отрубях — черная ржаная труха и черная пшеничная труха. Младший брат, обладатель нахальных бегающих глаз, говорил о том, как надо торговаться: не следует сразу же называть окончательную цену. Надо начинать с высокой цены и снижать ее потихоньку. К тому же всегда надо знать, как войти и как выйти. У какого-нибудь ломжинского пекаря нельзя просить за мешочек белой муки больше, чем семнадцать с половиной злотых. Он знает цены и уйдет к другому торговцу. Просить больше можно у лавочника из чужого местечка. Однако у хозяйки, покупающей пару килограммов пшеничной муки на выпечку, можно выманить четвертак.
— Теперь ты понимаешь? — пропели трое братьев разом.
Цемах вытер белую пыль с рук и ответил:
— В муке и в торге я все еще понимаю не слишком хорошо. А вот вас я понимаю отлично. Вам хочется самим со временем стать большими торговцами. Но ваша мама должна Бога молить, чтобы вы навсегда остались приказчиками. Потому что, если вы сгибаетесь втрое перед теми, кто сильнее вас, вы будете топтать тех, кто слабее.
Приказчики отодвинулись подальше и поблагодарили Бога за то, что никто не слышит, как их двоюродный брат разговаривает с ними.
В склад вошел реб Копл Койфман, один из функционеров городской еврейской общины. Он был одет в лапсердак, блестевший от капнувшего на него во время еды жира, кидушного[54] вина и свечного сала, пролитого во время обряда гавдолы[55]. Реб Копл всегда был занят сбором пожертвований на талмуд тору[56] и на сиротский дом. Ломжа знает, что он не берет себе не единого гроша. Он живет с доходов лавки, которую держит его жена. Цемах тоже уже был знаком с ним, и ему как раз не нравилось, что этот еврей так сладко вздыхает, рассказывая о нуждающихся детях из талмуд торы. На этот раз реб Копл вошел с полным ртом вздохов требовать ежемесячных денег на содержание сиротского дома. Он вынул из кармана свою книжку квитанций, послюнявил синий карандаш и ждал, сколько прикажет записать деверь Ступелей. Цемах дал ему пожертвование и отказался от квитанции.