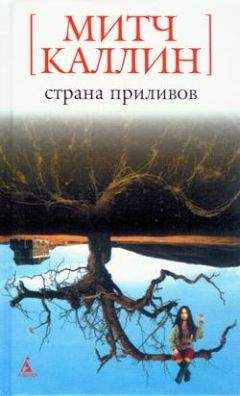— Ты испортила майку! На что похожи твои руки!
Но хуже всего был мой отец. Он ничего не делал. Просто стоял у входной двери и ничего не говорил. А мне хотелось наорать на него за то, что он смеялся надо мной в тоннеле. Я хотела объяснить, что это он виноват, что это он придумал игру с баллончиком.
МАТЬ, СОСИ X…! Вот что мне надо было написать на бетонном полу тоннеля. Вот что мне надо было сказать ей, когда она меня отшлепала.
Я оглядела стены в поисках других надписей, но солнце уже скрылось в зарослях джонсоновой травы, и я ничего не увидела. Тогда я выглянула на луг, где уже сверкали редкие огоньки.
— Я здесь! — закричала я.— Я здесь! Это я!
И тут же зажала ладонью рот. Нельзя так громко кричать. Меня же может услышать женщина-призрак. Подумает еще, что я ее зову.
Поглядев через проход в другие окна, я увидела ее луг. Но из-за железнодорожной насыпи и покрывавших ее сорняков мне не было видно ни колокольчиков, ни камней, окружающих радио. Ни женщины-призрака, если она была там. А за ее лугом, среди мескитовых деревьев, горел желтый огонь, в тысячу раз больше любого светлячка. «Там, далеко, по крайней мере за милю от автобуса и от меня, — подумала я, — бродит царица всех светлячков».
По ту сторону насыпи все казалось большим: и цветы, и камни, и заросли травы. И призрак.
— Она может запросто разрушить Токио, как Годзилла, — сказала я Классик. — Мамина кровать превратилась бы под ней в лепешку.
— Она королева Гунхильда. Королевы всегда самые толстые. Потому они и становятся королевами. Все приносят ей золото и разную еду, а она сидит в своем дворце на весах и толстеет, а все, кто проходит мимо, должны давать ей еду и столько золота, сколько она сама весит.
— Все королевы — чудовища. Их надо душить и топить в болоте.
Я представила себе, что это моя мать бродит по лугу, вырывая с корнем сорняки и отшвыривая в сторону камни. И она знает, что я в автобусе. И хочет есть. Скоро она поднимется на насыпь и окажется прямо на путях. И погонится за мной с криком:
— Ты жалкая тварь!
Светлячки прилетели и мелькали за окнами. Их огоньки вспыхивали то здесь, то там, но я не обращала на них внимания. Я крутила головой из стороны в сторону, выглядывая то в одно окно, то в другое, боясь, как бы кто-нибудь не подкрался ко мне в темноте. Я попыталась послать мысленный приказ Классик: «Проснись, проснись, я в беде», — но она спала и видела сны про эскимо. Я была одна. А отец отдыхал где-то в Дании. Он не поможет, даже если мать будет меня душить, даже если она оторвет мне голову.
И я ждала.
Я побегу, как только услышу поезд. Автобусная дверь, спасительный выход, была рядом. Отец говорил мне, что человек запросто обгонит призрака, или Болотного Человека, или любого монстра.
— Они могут поймать тебя только тогда, когда ты их не ждешь. Если ты готова, то всегда можешь убежать.
— Но они же быстро бегают.
— Ничего не быстро. Мертвые все делают медленно. Чтобы быстро бегать, надо жить. Надо, чтобы сердце качало кровь.
— Почему?
— Потому что если сердце не качает кровь, значит, ты умер. А если ты умер, то и бежать не можешь.
— А как же люди ходят, если они умерли?
— Никак. Их просто воздух носит, наверное. Как листья на ветру. Энергия или еще что-нибудь в этом роде подхватывает мертвеца в одном месте и переносит в другое. Магия. Покойникам нужны тонны магии, — живым людям столько не нужно.
Я ничего не поняла. Но все равно поверила.
— Значит, когда видишь чудовище, надо бежать?
— Бежать надо еще до того, как ты его увидишь. Как только почувствуешь. Как только почувствуешь, что вот сейчас оно выскочит и схватит тебя. А не как в кино. Там люди вечно ведут себя как идиоты. Стоят и ждут, когда их поймают. А потом начинают спотыкаться, оглядываться и визжать. А надо просто бежать. Тогда тебе ничего не страшно.
Хватит ждать. Поезд опаздывает. Болотные люди уже выбрались на поле; я слышала, как они шуршат в зарослях сорго. И королева Гунхильда была голодна. Но я еще не умерла, и поэтому я побежала.
Мои кроссовки без разбора топтали колокольчики и лисохвосты. «Простите, — повторяла я про себя, — простите меня». Я не оглядывалась и не визжала.
А еще я посылала сигнал:
— Классик, услышь меня. Ты проснулась, и тебе больше не хочется спать. Ты проснулась, и тебе больше не хочется спать. Ты проснулась.
На коровьей тропе было полно светлячков, так что рот пришлось закрыть. Мне вовсе не хотелось проглотить одного из них. Если светлячок окажется у меня внутри, то мой живот тоже начнет мигать. Тогда, если мне вдруг понадобится спрятаться в высокой траве, увидеть меня будет легче легкого; я буду как Багз Банни, который вышагивает перед Элмером Фаддом с мишенью на заду и спрашивает:
— А скажите, док, почему вы решили, что в этом лесу есть кролик?
— Даже не знаю. Так, интуиция.
Подбегая к дому, я услышала поезд. От его приближения дрожала земля. Я прислонилась к флагштоку, чтобы отдышаться, и почувствовала, как вибрирует под моим плечом стальной шест. Джонсонова трава шелестела на ветру, мои руки покрылись гусиной кожей. Никто за мной не гнался. Пока. Я попыталась разглядеть что-нибудь сквозь заросли сорго, но не вышло. Однако я и без того знала, что происходит на лугу: волной воздуха светлячков отнесло от автобуса в поле. Осколки стекла задребезжали на перевернутой крыше обгоревшего салона, другие градом посыпались из окон. А королева Гунхильда не может перебраться через рельсы, по крайней мере сейчас.
Классик вышла на связь, я услышала слабый сигнал: «Все в порядке. Я проснулась. Приходи за мной». И тут же все кончилось: стих шум, промчался поезд, улегся ветер. Мои ладони взмокли от пота. Зато я была в безопасности. Я поднялась на крыльцо и вошла в дом.
Отец сидел в кресле. Я видела его затылок. Карта Дании на стене обвисла, выгнулась; верхний угол отклеился. Сначала я хотела поправить ее, но это означало подойти ближе к нему. А вдруг он снова поменял цвет, подумала я, страшась самой этой мысли, особенно теперь, когда в доме стемнело. Отец стал похож на Кольцо Настроения из шкатулки моей матери: то посинеет, то вдруг станет черным. И все некстати.
Халат валялся прямо на полу, у самой двери, где я и подобрала его. Атлас был гладким. Я прижала его к щеке.
— Гладкий, как попка младенца, — сказала я, успокаиваясь от звука собственного голоса.
«У меня есть идея», — подумала Классик.
«Какая?»
«Приходи за мной, я тебе расскажу».
Я прижала к себе халат, словно младенца. Лампа над лестницей не горела; там было темно, ступенек не видно. Но я представила, как будто на сгибе моей руки лежит попка младенца, и мне стало легче.
— Как я тебя люблю, — сказала я халату. — Ты мой сладенький.
А когда я показала моего малыша Классик, она сказала:
— Он же неживой. У него даже костей нет. На парике спали все, кроме нее.
— Ну и что. Зато он гладенький.
— И сердца, которое качает кровь, у него нет.
— У тебя тоже.
— Откуда тебе знать? — обиделась она. — А может, есть.
— Прости меня.
Мне не хотелось с ней спорить. Она могла быть очень упрямой. Если я буду спорить, она возьмет и не расскажет, что у нее за идея, хотя я и так уже все поняла. Поэтому я осторожно положила халат на подушку, а потом натянула на палец Классик.
— Бери парик, — сказала она.
Я дернула парик на себя, отчего Джинсовая Модница, Волшебная Кудряшка и Стильная Девчонка полетели кувырком. Потом я пошла в ванную и взяла там косметичку. Но, прежде чем выйти из ванной, я заметила, что дверца под раковиной снова приоткрылась, а за ней зиял мрак, неизведанное пространство, бездна, где вполне мог устроиться на зимовку Болотный Человек. Чердак стал совсем не таким, как днем; теперь он превратился в иной мир, черную дыру Рокочущего. Я попыталась закрыть дверцу, но щеколда никак не хотела оставаться на своем месте. Я изо всех сил надавила на нее ладонью. Стоило мне убрать руку, как щеколда опять выскочила. Тогда я вытащила из косметички маленькую зубную щетку — ее щетинки были покрыты засохшей тушью — и всунула рукоятку в зазор между щеколдой и косяком.
— Ни с места, — приказала я щетке, — иначе умрешь.
Зубные щетки иногда умирают. Щетина темнеет, и все. Кроссовки тоже умирают. И дома. И мамы с папами. Планета полна умирающих, умерших, мертвых. И только красивые, такие, как Классик, живут вечно. Смерть безобразна.
В гостиной я прошептала:
— Ты видение.
Парик подошел отцу как нельзя лучше, белые локоны почти полностью скрыли его хвост.
— Ты сенсация.
Его лицо оставалось бледным, как и раньше. Он вообще почти не переменился за день. И мне стало легче. В косметичке нашлись румяна, и я подкрасила ему щеки, мочки ушей, подбородок, чтобы скрыть лиловые пятна. Потом сняла с себя капор и надела на него.