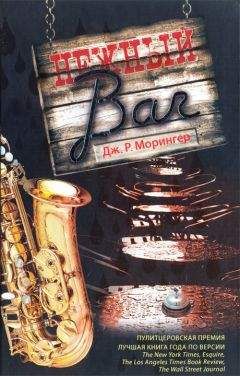— Боже мой, — говорила Шерил, — ты меня нервируешь. Расслабься!
— Прости.
Держась за руки, мы обходили Честер-драйв, когда к нам подъехал фургон тети Рут. Не замечая меня и пристально глядя на Шерил, тетя Рут прошипела:
— Садись. Немедленно. В машину.
Шерил обняла меня на прощание и сказала, чтобы я не волновался. Я отправился было к дедушке, но остановился на полпути. Что бы сделал на моем месте Гайавата? Убедился бы, что с Шерил все в порядке. Сестра нуждается в моей защите. Я развернулся и пошел обратно по Пландом-роуд, затем прокрался аллеями и задними дворами к забору дома тети Рут. Забравшись на мусорный бак, я увидел тени в окне и услышал крики. Я был слишком напуган, чтобы пошевелиться. Сидел и гадал, защитит ли Макграу сестру и влетит ли ему за это. А виноват во всем был я.
Медленно, стирая свои усы, я пошел домой, то и дело останавливаясь и заглядывая в окна соседей. Счастливые семьи. Пылающие камины. Дети, одетые пиратами и ведьмами, сортирующие и подсчитывающие свои конфеты. Я готов был поспорить: никто из этих детей и знать не знает, что такое эмбарго.
Маме удалось получить более высокооплачиваемую работу секретаршей в больнице Норт-Шор, и ее зарплаты теперь хватало на то, чтобы снять двухкомнатную квартирку в Грейт-Нек в нескольких милях от дома дедушки. Она заверила меня, что я по-прежнему буду ходить в пятый класс школы Шелтер-Рок, а после уроков автобус будет привозить меня к дедушке, но каждый вечер, по окончании ее рабочего дня, мы с мамой будем возвращаться в нашу новую квартиру… домой. Она не запнулась на этом слове — просто выделила его.
Мама полюбила ту квартирку в Грейт-Нек еще больше, чем наше предыдущее жилье. Она была влюблена в паркетные полы, в гостиную с высокими потолками, в улицу под сенью деревьев, — она дорожила каждой мелочью. Мама обставила квартиру так хорошо, как только могла, — списанной мебелью, которую собирались выбросить из недавно отремонтированного приемного покоя больницы. Когда мы садились на эти жесткие пластмассовые стулья, лица у нас были такие же натянутые, как и у тех, кто сидел на них до нас. Мы тоже напряженно ждали плохих новостей, но в нашем случае это был бы незапланированный ремонт машины или неожиданное повышение квартплаты. Я переживал, что если нам придется отказаться от квартиры в Грейт-Нек и вернуться к дедушке, маминому разочарованию не будет границ. На этот раз оно просто убьет ее.
Моя тревога стала перерастать в хроническую, в то время как мать по-прежнему отгоняла беспокойство песнями или положительными установками («Все будет хорошо, мой мальчик!»). В какой-то момент я даже поверил в то, что она ничего не боится, пока не услышал крик из кухни и, прибежав туда, не обнаружил ее стоящей на стуле и указывающей на паука. Когда я убил паука и понес его по коридору, чтобы выкинуть в мусоропровод, я напомнил себе, что мама не такая уж смелая и что мужчина в доме я, и это удвоило мое беспокойство.
Приблизительно раз в год мать забывала весь свой притворный оптимизм, закрывала лицо руками и рыдала. Я обнимал ее и пытался подбодрить, повторяя ее же собственные положительные установки. Сам я в них не верил, но матери они, похоже, помогали. «Все абсолютно верно, Джей Ар, — говорила она, хлюпая носом, — завтра будет новый день». Однако вскоре после того, как мы переехали в Грейт-Нек, ее рыдания стали необычно горькими, и тогда я перешел к плану Б. Я прочитал монолог, который слышал в исполнении актера в «Шоу Мерва Гриффина». Я записал его на бумажке и заложил в школьный учебник как раз для такого случая.
— Эй, ребята! — сказал я, читая по бумажке. — Мне очень приятно, очень приятно быть здесь. Я не лгу. Нет, сэр, я ненавижу лжецов. Мой отец был лжецом. Он сказал мне, что он эксперт транспортной промышленности, — он полстраны объехал автостопом!
Мама медленно отняла руки от лица и уставилась на меня.
— Да, — продолжал я, — отец сказал мне, что у нас в гостиной мебель Луи Четырнадцатого. Луи забрал бы ее обратно в магазин, если бы мы не заплатили до четырнадцатого числа!
Мама притянула меня к себе и сказала, что ей ужасно неловко, что она меня напугала, но она не могла сдержаться.
— Я так устала. Устала волноваться, сражаться, устала быть совсем… совсем одной.
Одной. Мне стало обидно. Как бы близки мы ни были с мамой, отсутствие мужчины в нашей жизни заставляло нас чувствовать себя одинокими. Иногда мне было так одиноко, что я искал какое-то более выразительное, более длинное слово для обозначения одиночества. Я пытался рассказать бабушке о том, что я чувствую, о том, что жизнь постоянно забирает какую-то часть меня, сначала лишив меня Голоса, потом Макграу, но бабушка неверно меня поняла. Она сказала, что жаловаться на скуку — грех, потому что многие люди готовы все на свете отдать за то, чтобы скука была их самой большой проблемой. Я пояснил, что мне не скучно, а одиноко. Она ответила, что я так и не стал сильным мужчиной, как она просила. «Иди, сядь на стул и посмотри в небо, — сказала она, — и поблагодари Бога за то, что у тебя ничего не болит».
Я пошел наверх, порылся в тайнике и вытащил оттуда старинный проигрыватель и механическую печатную машинку сороковых годов. Чтобы скрасить свое одиночество, я стал слушать пластинки Фрэнка Синатры, одновременно создавая нечто, что называл «Семейной газетой». Первый выпуск был датирован началом 1974 года, на первой полосе был краткий биографический очерк о моей маме и анализ администрации Никсона в четыре строчки. Была также короткая передовица, порицающая международную торговлю «марихуванной», и короткая, скомканная сводка семейной размолвки. Первый экземпляр я вручил дедушке. «Семейная газета? — хмыкнул он. — Ха! Но у нас нет се… се… семьи».
Подготовив завтрашний выпуск «Семейной газеты», я шел кататься на велосипеде с крутого холма на Парк-авеню, где был расположен один из самых старых и, на мой взгляд, красивых домов Манхассета. Катаясь взад-вперед вдоль старой величественной громадины, я заглядывал в окна, размышляя над тем, как попасть в эту страну богатых. Я вдыхал дым от горящих поленьев, клубившийся из трубы, — такой дурманящий и приятный. Богатые люди, решил я, ходят в какой-то секретный магазин, где и покупают такие ароматные поленья. В том же самом магазине должны продавать волшебные лампы. У богатых был самый лучший фарфор, лучшие шторы и конечно же зубы, а еще у них были лампы, от которых исходил мучительно уютный свет. По сравнению с ними дедушкины лампы светили как тюремные прожектора; от них плавился мозг. Даже мама избегала ламп в дедушкином доме.
Приходя из школы, я жаловался бабушке на одиночество. «Иди, сядь на стул и посмотри в небо…»
В конце концов я ретировался в подвал.
Как и в баре, в дедушкином подвале было темно. Сюда детей не пускали. В подвале урчала печка, засорялся толчок и висела огромная паутина размером с рыболовную сеть. Спускаясь на свой страх и риск по расшатанной лестнице, я был готов дать деру при первом же звуке, но через несколько минут обнаружил, что подвал — идеальное место для того, чтобы спрятаться, и единственная часть дедушкиного дома, где можно спокойно уединиться. Никто не искал меня здесь, а печка заглушала склоки взрослых наверху.
Отважно исследуя дальние углы подвала, я открыл для себя его самое привлекательное качество — скрытые сокровища. Засунутые в коробки, разложенные стопками на столах, вываливающиеся из чемоданов и кофров, здесь хранились сотни романов и биографий, учебников, мемуаров и пособий, оставленных предыдущими поколениями и разъехавшимися родственниками. Я помню, как ахнул от восторга.
Я полюбил эти книги с первого взгляда, и эту любовь предопределила мама. С тех пор, как мне исполнилось девять месяцев и пока я не пошел в школу, мама учила меня читать, используя причудливые карточки, которые заказала по почте. Я до сих пор могу представить эти карточки так же четко и живо, как газетные заголовки, набранные крупным шрифтом: ярко-красные буквы на кремовом фоне и за ними — мамино лицо, молочно-розовое в обрамлении каштановых волос. Мне нравилось, как выглядели слова на карточках, форма букв; я подсознательно ассоциировал шрифт с лицом матери. Позже слова по-настоящему завоевали мое сердце. Они, как ничто другое, сумели организовать мой мир, навести порядок среди хаоса, аккуратно разделить все на белое и черное. Слова даже помогли мне понять родителей. Мама была печатным словом — осязаемым, настоящим, реальным, а отец — устной речью — невидимой, эфемерной, которая сразу же превращалась в воспоминание. В словах я находил нечто успокаивающее.
Теперь, в подвале, мне казалось, что я стою по грудь в набежавшей волне слов. Я открыл самую большую и тяжелую книгу, которую смог найти, — историю похищения ребенка Линдберга.[20] Вспомнив угрозы отца, я ощутил родство с малышом Линдбергом. Я рассматривал фотографии его маленького трупа. Я запомнил слово «выкуп», которое, как мне казалось, означало что-то вроде алиментов.