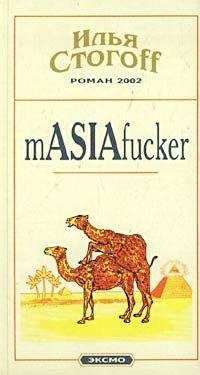Осмотрев достопримечательности пустыря и поблагодарив женщину, я добрел до места, где кончался песок и начинался асфальт. Песок из брюк и кедов я вытряхивал долго.
3К концу первой недели пребывания в Центральной Азии я захотел помыться. Вернее, не захотел, а понял, что если сейчас же не помоюсь, то умру.
Я сказал об этом Абдуле-Умару, и тот ответил, что проблемы нет. В Бухаре, в еврейской махале, он знает бабку, в квартире которой стоит ванная.
— Что такое махаля?
— Не знаю, как по-русски. Много домов. Место, где живут евреи.
— Еврейский квартал?
— Наверное. Там хорошие ванные.
— Скажи, Абдула-Умар, а ближе, чем Бухара, нет мест, где можно помыться?
— Зачем тебе ближе?
Рейсовый автобус шел до Бухары около семи часов. Это были семь часов страшного зноя. От автовокзала до места, где живут бухарские евреи, мы ехали на такси.
Улочки квартала были пыльны и пусты. В одном месте бульдозер срывал стены развалившегося дома. Наша машина с трудом взбиралась на кучи битого кирпича и поворачивала среди вплотную прижатых друг к другу стен.
Потом она застряла окончательно, и дальше мы пошли пешком.
В воротах дома, к которому привел меня Абдула-Умар, не хватало нескольких досок. На стене краской было написано по-русски: «САМОВОЛЬНО НЕ ЗАСЕЛЯТЬСЯ. ДОМ ИДЕТ ПОД СНОС».
— Здесь. Пойдем.
— Здесь?
Мы прошли в ворота. За ними начинался огромный двор, перегороженный фанерными заборчиками и веревками с бельем на множество отсеков. Пригибаясь под веревками, спотыкаясь о набросанные кирпичи, кивая встреченным мужчинам в майках и чуть не наступив на привязанного к стене щенка дога-долматинца, мы забрались в самый далекий угол двора.
— Салям алейкум.
Абдула-Умар низко кланялся, улыбался и прижимал руки к груди. Под козырьком в тени сидели несколько молчаливых женщин в пестрых платьях. На земле лежала автомобильная покрышка, на ней — несколько досок, на них — газета, а на газете — незнакомая мне пища, которую женщины ножами резали на мелкие кусочки.
Когда мы подошли поближе, дамы, не поднимая глаз, поддернули, прикрывая лица, свои платки.
Из дома вышла говорящая по-русски пожилая женщина. Она объявила мне цену помывки. Я на нее согласился.
— Мыло дать?
— Да. Дайте. Пожалуйста.
— У меня только хозяйственное.
— Дайте хозяйственное.
Ванная комната была именно комнатой. Огромным, как школьный спортивный зал, помещением с несколькими узкими окнами и широкими щелями в стенах. Посреди комнаты лежала лохматая собака.
Старушка терпеливо терла тряпочкой стенки ванной. Сливное отверстие она заткнула не затычкой, а той же самой тряпочкой.
— Воду не закрывай. Пускай течет. Если наберется чересчур много, лучше выпусти лишнюю, но не закрывай.
— Почему?
— Взорвемся. Газовая колонка плохо работает. Один недавно закрыл — чуть полдома не снесло.
Старушка вышла из ванной. Я остался стоять посреди комнаты. Еврейская собака, задирая брови, рассматривала меня, ждала, пока я начну раздеваться. А ведь мы даже не были представлены.
Я решил не мыться, а просто переждать здесь, сделать вид, будто помылся, может быть, намочить голову и уйти. Женщины, сидящие во дворе, смотрели на меня сквозь щели и молча продолжали резать еду.
Вода текла из краника не желтая, а серого, металлического цвета. Она была абсолютно холодная.
Я выкурил сигарету и все же начал стягивать через голову свою футболку, которую надел две недели назад в другой части света, в ту эпоху, когда еще не знал, что окажусь там, где я оказался.
Вода пыталась наполнить ванну больше сорока минут. Но выше чем на четыре пальца ее уровень так и не поднялся. Из ванны я вылез гораздо более грязным, чем залез.
Потом мы пошли с Абдулой-Умаром гулять по Парижу исламского мира, священному городу Бухаре. То, что я увидел, было даже хуже, чем ванная в еврейском квартале.
Улицы Старого города были так узки, что я задевал плечами за стены сразу с обеих сторон. Солнце не проникало в щели между домами. Улицы были выше щиколотки покрыты слоем жидкой вязкой грязи. Зато в одном месте из окна я услышал старую песенку «Dire Straits». Это было, как если бы мама погладила меня по волосам.
Вода в бассейнах на площадях высохла, и дно покрылось толстым слоем пыли. Когда-то здесь, наверное, били фонтаны и было красиво. Теперь здесь бьют разве что заезжих белых по голове.
Возле бывшего невольничьего рынка стояли корявые деревья. На одном висела табличка, сообщавшая, что дерево посажено в те годы, когда Христофор Колумб был еще полностью уверен, что за горизонтом плоская земля заканчивается и можно увидеть слона, от скуки машущего длинным хоботом. Почти белый от старости ствол напоминал сгнивший гриб. Мы постояли в тени, отдышались.
По поводу каждого встречного здания Абдула-Умар рассказывал мне историю, вроде того, что проектировщика этого медресе живым замуровали в фундамент здания, а архитектора вот той мечети сбросили с минарета на мостовую. Я сделал вывод, что строительные специальности в этих краях не очень выгодны.
В справочниках указывалось, что население Бухары составляет полтора миллиона человек. Может быть, когда-то так и было. Но к моменту, когда в город приехал я, Бухара была пуста, безлюдна, разрушалась, приходила в упадок.
Здесь не осталось даже нищих. Те, кто мог, погрузились на ишаков и уехали. У кого не было ишаков — ушли пешком. За девять часов, проведенных в мертвой Бухаре, я встретил от силы сорок человек и два автомобиля. На втором из них я уехал обратно в Самарканд.
Машина была модная и почти новая. Японская «DAEWOO» открыла в республике завод по сборке автомобилей. Это был единственный действующий завод во всей Центральной Азии.
Несколько лет назад я, помню, оказался в Маниле, на Филиппинах. На южных островах мне предстояло участвовать в международном конгрессе, но, вместо того, чтобы идти на заседание, я каждое утро уходил болтаться по городу.
Один раз я забрел в район с названием Мандалуйонг. Это была такая дыра, что даже на картах города ее обозначали лишь белым пятном. Когда филиппинцы узнавали, что я был в Мандалуйонге, они бледнели и говорили, что сами ни за что в жизни туда бы не пошли.
Район представлял собой бесконечные, до горизонта, ряды хижин, построенных из картонных коробок, отломанных автомобильных дверец, пальмовых листьев и обожженных солнцем досок.
Аборигены сидели перед домами и на швейных машинках с ручным приводом шили джинсы. Десятки тысяч голых филиппинцев с утра до вечера шили джинсы, в которые потом впихивали задницы модники Европы и Северной Америки.
С тех пор я знаю главный секрет Западного Процветания. Белые люди живут хорошо не потому, что умеют работать, а остальные — нет, и не потому, что у них какая-то особенно эффективная экономика.
Все проще: белые носят модные брюки лишь потому, что в местах, которые не обозначаются на карте, голые цветные на машинках с ручным приводом эти брюки для них сшили.
4В Бухаре я купил себе пеструю тюбетейку. Мне показалось, что если я ее надену, то стану похож на аборигена и не буду привлекать к себе столько внимания.
Я надел шапочку — ничего не изменилось. Нищие точно так же бросались ко мне на улицах, только теперь вместо криков: «Дай денег!» — они кланялись, делали мусульманские жесты и говорили: «Благословите, святой человек!»
Я стащил шапочку с головы, спрятал в карман, а вечером встал в номере перед зеркалом и попытался разглядеть в рыжебородом отражении хоть что-нибудь похожее на святость.
Именно в этот момент в дверь постучали. Я открыл.
Снаружи стояла высокая узбекская девушка. На ней были прозрачные гольфики, немодные адидасовские кроссовки, обтягивающая белая шелковая рубашка… помесь стюардессы и школьницы старших классов.
А на мне были семейные трусы и волшебная шапочка на лысой голове. Я был толстый, потный и грязный.
— Good evening! Услуги не нужны?
Знаете, может быть, я дурак, но сперва я решил, что посреди ночи девушка пришла ко мне в номер починить унитаз. Я прошел в комнату и натянул брюки. Девушка прошла следом и начала раздеваться.
— Э! Подруга! Что ты делаешь?
— Недорого, мистер.
— Одеваемся! В темпе!
— Откуда вы?
— Я сказал, о-де-ва-ем-ся!
— Двенадцать тысяч узбекских сум. В смысле — один доллар.
— Ты понимаешь русский язык? Нет?
Девица все еще раздевалась, а я наклонялся, подбирал ее вещи, совал их ей в руки, но она снова кидала их на пол.
— Пожалуйста, мистер! Не выгоняйте меня!
— Я устал. До свидания.
— Вам жалко один доллар?
— Да. У меня мало денег.
— Хорошо. Семь тысяч сум. Шестьдесят центов.
Я сел на кровать и закурил. Кровать душераздирающе застонала.
— Смотрите, какая я гибкая!
— Покувыркайся.
— Почему вы не хотите, мистер?
— Я женат.