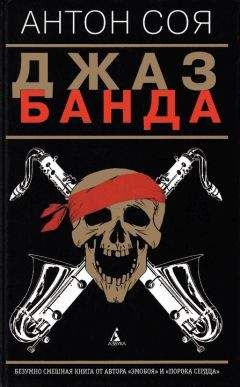Иного выбора у них не было.
Лошадь скакала по слегка завихренным складкам необъятной пустыни. Глаза ее были матовыми, словно черный мрамор, а бег ее не имел определенного направления. Единственным ее ориентиром служила отдаленная точка на горизонте, где к небу возносилась почти неразличимая струйка дыма. Вокруг шеи лошади была завязана труба. И никакого всадника.
Инструкция по охоте на тигров
– Когда ты стоишь там, на сцене, труба кажется позолоченной винтовкой, духовым ружьем, оружием, которое испускает тысячу лучей, быть может физически и не опасным, хотя наверняка и не скажу, оружием, способным поражать цель и ранить – сюда, в голову, а еще чуть пониже. Боб, сюда, рядом с левым карманом на рубашке. И вот когда ты начинаешь жать на клапаны, когда твое тело принимается яростно выгибаться и раскачиваться, то кажется, что ты привел в действие целую фабрику и сшиваешь в одно целое лоскутки небес… идеальная музыкальная мануфактура… Впервые, когда я увидела, как ты играешь, Боб, мне показалось, что ты охотишься на тигров… Я хочу сказать – на души тигров. Это было нечто фантастическое.
– Не могу с этим ничего поделать, любимая.
– Я не шучу, Боб. Мне больно оттого, что ты не принимаешь меня всерьез.
– Я тоже не шучу, когда спрашиваю, могла бы ты любить меня так же крепко, не будь я музыкантом.
– Не будь ты музыкантом, ты был бы другим… Твой стиль игры, твои записи останутся навсегда… Боже мой… Неужели ты не понимаешь?
Клара заметно нервничала. Боб чуть откинулся на стуле, который был для него маловат.
– Тебе надо привыкнуть к мысли, что я такой же человек, как и все. Не пойми меня неправильно, я горжусь самим собой, и я знаю, что я неплох, когда играю, что я один из лучших, – все это мне известно. Однако мне кажутся идиотскими амбиции тех людей, которые черпают силы в сознании собственного бессмертия и считают себя великими творцами. Все эти художники, артисты, музыканты и иже с ними – они ведь очень наивные, Клара. Они умирают по-дурацки счастливыми, с улыбкой от уха до уха, потому что верят, что переходят в вечность… Черт подери, давайте разбираться всерьез… Если бы по крайней мере вечность была чем-то длительным… Длиться вечно? Но ведь если через пятнадцать тысяч лет не останется ни следа от этого несчастного мира… И меня не утешает тот факт, что обо мне будут помнить, скажем так, хотя бы из археологического интереса, в течение сотни, пятисот, двух тысяч лет. Бессмертие выше всего этого, тут нужно суметь перескочить на другую сторону, подставить ветру лицо› не боясь в этом прыжке потерять шляпу – даже вместе с головой, – и ни разу не моргнуть во время этого творческого галопа, который нельзя остановить. Творить, творить, творить… Творчество, Клара, – вот в чем все дело: скачка творца намного страшнее, чем даже бегство приговоренного к смерти. Как ты сама сказала, Клара, именно здесь, наверху, – вот где нужно искать бессмертие, здесь, наверху, а еще чуть пониже, под тем карманом на рубашке, где у меня лежат сигареты «Голуаз», где другие хранят портсигары или закованные в броню Библии. Но никогда нельзя стремиться остаться в чьей-то памяти. Нет ничего слаще забвения, дорогой мой маковый цветочек.
– Но вот Шекспир, например…
– Шекспир? Тенор-сакс, каких много… То bop or not to bop?[23]
– Иногда, Боб, я от тебя заболеваю.
– That's the infection.[24]
– Ты никогда не научишься самого себя принимать всерьез?
– Вот что я тебе отвечу, Клара: знаешь, какое из всех млекопитающих, подаренных нам матушкой-природой, самое разумное?
Стул негромко скрипнул, демонстрируя любопытство.
– Это амнезия, Клара. Амнезия.
– Честное слово, Боб, я тебя не понимаю. Не знаю, что с тобой делать. Прямо сейчас ты мог бы записывать пластинку в нью-йоркской студии «Коламбиа» с каким угодно составом – если бы захотел. С «Мессенджерз», с Майлзом – с кем угодно! Я тебя не понимаю!
– А вот я понимаю. Я себя понимаю, Клара. Понимаю, что я – самый обычный человек, парень, которому нравится курить сигаретки и макать кусочки хлеба в только что открытые банки с консервированными томатами, заурядный тип, который иногда отправляет какое-нибудь письмо, почти всегда с отчаяния и почти всегда без толку. И раз уж мне вспомнилось, Клара… Все время забываю тебя спросить… В разговор вмешался голос Николаса:
– Хватит трендеть! Если вы тут же не явитесь завтракать, ваш покорный слуга обещает кинуть ваши тосты тиграм. Кофе же стынет, мать вашу за ногу!
– Нет нам прощения.
– Как сказали бы в Сибири, убийство шести миллионов евреев, а также пренебрежение хорошо сваренным кофе – это величайшие преступления против человечества, которые только можно совершить.
По правде говоря, люди на этих ледяных просторах всегда отличались склонностью к преувеличению – еще с тех пор, когда видели в своих морях китов, которых почему-то называли «Лениграды».
Облупленные стены Боливии
Нельзя сказать, чтобы их тесное пристанище под названием «Nice Katilu», что в квартале Боливия, было чем-то из ряда вон выходящим. Оно вовсе не выходило из ряда. Стены были в трещинах, а с потолка свисали голые лампочки, которые качались, словно маятники, когда кто-нибудь проходил по коридору с дощатым полом. «Эти лампочки – как лоза в руках лозоходца», – пошутил Боб Иереги, едва только успев войти в квартиру и все еще вспоминая гигантские танкеры в порту Роттердама. Потолок окончательно проиграл сражение сальному налету никотина – гипс едва проглядывал из-под этой равномерной желтой субстанции. По крайней мере проигрыватель был исправен. Возле него стоял маленький свинцовый филин с огромными голубыми глазами. В этом взгляде было нечто внушавшее тревогу. А вот Кларе свинцовая фигурка очень понравилась; она решила, что оставит ее себе на память, когда наступит пора съезжать с квартиры.
Съезжать с квартиры. Тогда они еще не знали, что это окажется делом невозможным.
В остальном в новом жилище было пустовато. На стенах висело только несколько репродукций Ван Гога, причем на разной высоте. На ночном столике – очередная разбитая лампочка. Малейшее колебание пружинящей вольфрамовой нити превращало ее в опасное испытание для комаров-канатоходцев. Эту лампу лучше не зажигать, решил для себя Боб. Под ночным столиком лежали три пластинки: Кенни Дорхэм, Майлз Дэвис и Телониус Монк. Ну вот, уже что-то. Хотя квартирка была и тесновата, потолки по крайней мере были высокие. Николас расположился в комнате поменьше, в глубине, другая досталась Кларе и Бобу.
Пока Николас готовил кофе на крохотной кухонной плите, Боб и Клара сбежали в столовую. Когда они распахнули ставни, их взглядам открылся весь город. С одной стороны был ясно виден разводной мост, с другой – неоготический собор, убогая копия настоящей готики. Собор отражался и в экране комнатного телевизора. Боб нажал на кнопку, чтобы проверить – а вдруг работает?
«Дорогие телезрители, не пропустите! Буквально сейчас начинается наш конкурс, спонсором которого выступает шампунь „Гальо Блай"…»
– Что за слюнявая рожа! – заметил Русский, после того как пожаловался, что в кухонном шкафу нет кофейных чашек. – Меня всегда поражали люди, битком наполняющие трибуны на телешоу.
– Скорее всего, это солдаты армии homeless,[25] призванные под картонные афиши тротуаров Манхэттена. Несчастные, которым выдают по тарелке супа и по комплекту нательного белья и размещают в качестве публики после хорошенького бритья и стрижки.
– Тарелка горячего супа в обмен на чахлые лицемерные аплодисменты. Это было бы неплохо. Если так, то телевидение на что-нибудь да годится. Тогда у него появляется какая-никакая социальная полезность. Горячий суп. С паршивой овцы…
Сквозь распахнутые окна в комнату проникали лучи зеленого света. За неимением чашек Николас подал кофе в хрустальных бокалах. В целом мире не было человека, который готовил бы такой изысканный кофе, как Русский. Для него приготовление этого напитка было чем-то вроде ритуала, даже молитвы. На кухне его следовало оставлять в одиночестве. Перемалывание зерен в кофемолке оказывало на Русского ощутимый целительный эффект: эти зерна были для него как маленькие крупинки всего, что не устраивало его в жизни. По крайней мере так полагал Боб. Ему казалось, что, когда Николас мелет зерна, по всей его голове прокатывают волны неизъяснимого блаженства и что останки дня, о которых полагалось забыть, все эти потенциальные опухоли и нарывы обращались в пыль не только в воображении, но еще и в материальном, непоправимом физическом действии: в движении его кисти, вращающей рукоять кофемолки, причем вращение это обладало давно выверенным ритмом, который был известен лишь одному Николасу Голобородько, ритмом, который и придавал напитку этот неподражаемый вкус. А еще у Русского был особый секрет: вместо цикория он пользовался пеплом кремированной блюз-певицы, который всегда хранил в своем чемоданчике.