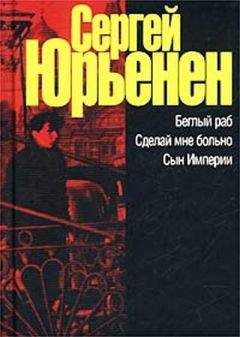«Oh, damn»[96], — ругнулась первая, поскольку, несмотря на все его усилия, пароксизма пока ещё не достигла. Кимоно слетело на паркет. Ай эм соу сори, сказал он. «Itʼs OK», — ответила она из душа, объясняя, что, согласно своему врачу, начнёт кончать не раньше, чем через три года интенсивной разработки, и с криком: «Have fan, you guys»[97] загремела по ступенькам вниз со своим чемоданом из цельного дюралюминия трансатлантическим.
Та, которая осталась, натянула длинные шерстяные носки и снова села за портативную машинку. «Donʼt be upset»[98], — и объяснила, что с мужчинами оргазмов у подруги ещё не было. Абсолютно пустой и голый, он сидел рядом, пока она дописывала письмо своему психоаналитику в Нью-Йорк.
Заклеив авиаконверт, американка нашла ему для утреннего джогинга пару драных кед, оставшихся от старшего брата: в них Алексей от неё и сбежал…
Письмо он бросил по пути.
20.
— Пошлый тип, — говорила Бернадетт во время обеда, — вкуса, ну никакого! Я в этом отдала себе отчет, взяв в руки его галстук, да, он забыл в шкафу, а номер был ужасный, причём, снимал он галстук через голову, ты понимаешь, не развязывая узел, такой широкий и короткий, а сам галстук даже не шёлковый, хотя в Италии мог бы себе позволить. Бедный, жадный и преданный своей мамуле. Ничего удивительного, что предпочитает он большие груди. Моими остался недоволен. Конечно, прямо не сказал, иначе получил бы в глаз! но выражал всем видом. По-твоему, не груди? По-моему, они на уровне.
— Вполне.
Соседи на них смотрели. Час обеденный, и кафе на рю Ришелье было переполненно. Они допивали графин rose[99] — завершая свидание, состоявшееся по её инициативе: конфиденциальное.
Он разлил остатки.
— Уф-ф! Хорошо, не забеременела. Я бы чего-нибудь выпила с кофе давай?
И сама заказала.
— Вот так, — сказала, выпив залпом арманьяк. — Это что касается Триеста. А говоря про нас с тобой…
Он дал ей прикурить и, утешая, накрыл ладонью её руку, которую она вырвала, и всё кафе опять взглянуло в их сторону.
— Но я хочу! ты понимаешь? — Осознав истеричность выкрика, она улыбнулась, как застенчивая девочка, но упрямо повторила — на полтона ниже. — Хочу ебаться.
Под его нехорошим взглядом парижане отворачивались, успев ему выразить своими умными глазами усмешливое неодобрение — как если бы он на глазах у всех встал поперек потока. Заведомо бессильный перед напором тридцатилетней парижанки с лихорадочными пятнами на скулах.
— Понимаю, но…
Она прервала паузу:
— Но он твой друг?
Он имел в виду не это, но не успел в уме построить фразу. Теперь же ничего не оставалось, как только подтвердить кивком. Померкнув, она усмехнулась и отбросила салфетку.
Поднялась и вышла.
21.
Через неделю вернулась Констанс.
Настала осень.
Мюнхен. 1991
Душа, ты рванешься на Запад,
а сердце пойдет на Восток.
Русский узел Юрий Кузнецов,
All is in order within this house.
Terence Sellers, The Correct Sadist[100]
In memoriam
австро-венгерского деда
(Средняя Европа — СССР, ГУЛАГ)
Александр еще раз приложил ладонь к груди и навсегда оставил дом, где сохранился маузер.
В чужой стране ему было неплохо — хотя и не без риска, как в данном случае. Учтивый гость, он несколько часов не поднимался с собственных ног; ел же, соответственно, рукой — зачерпывая плов и отжимая жир сквозь пальцы обратно в казан. Тогда как еще в Душанбе главврач Таджикистана Фридрих Адольфович (который за бутылкой доверил Александру замысел о возвращении на историческую родину, «вернее, в то, что от нее осталось — в ФРГ») предупреждал: «Подбрюшье сверхдержавы чревато-с, молодой человек. Коррупцией вас не возьмут, я вижу по глазам. Но бойтесь гельминтозов — бич тех долин!»
Вдоль улицы осыпались гранатовые деревца. Над крышами таяли кизячные дымки, и было по-предвечернему безлюдно. У чинары за околицей, нажевавшись зеленого порошка под русским названием «сухой коньяк», пребывали в малооправданной нирване старейшины рода, среди коих один выделялся ярчайшей рыжей бородой: резиновые галоши на босу ногу, драные халаты, грязные чалмы. Гость кишлака, он церемонно раскланялся со стариками, в последний раз подержав руку на сердце.
У перекрестка, стоя на пяти ногах, задумался о чем-то черный ослик. Пошерстив на ходу его горячее острое ухо, Александр посмотрел со дна долины на солнце.
Наколовшись на западе, оно пылало напоследок в немой истерике.
Он вышел на дорогу и погнал свою длинную тень в город Энергетик побочное образование всесоюзной ударной стройки. Здесь, в ущелье, строили плотину ГЭС — самую высокую в Азии. Стройка была, что называется, приоритетная: сам Брежнев посетил. В соседней долине тысячелетнее кладбище уже было затоплено, а в этой от цветущих кишлаков остались лишь карьеры с выбранной землей.
Такой же ямой станет и этот, последний, где, поджав ноги, Александр сидел с просвещенным местным человеком по имени Абдулло, отцом двенадцати детей, машинистом ЭКГ — тяжелого экскаватора — и владельцем двух, на взгляд гостя, не очень совместимых наследственных вещей: Корана и Маузера 96. Популярная такая модель во времена басмачества — с квадратом магазинной коробки и длинным стволом. Обсуждался вопрос — что делать в перспективе ямы? Застрелиться — это здесь, согласно Абдулло, не принято. Не подобает умирать душе иначе, как с дозволения Аллаха. Но велено душе сражаться на пути Аллаха с теми, кто преступает против вас. Стало быть, надо убивать товарища Москвина — начальника строительства. Убивать? А вот из этого — и был развернут маузер. Гнуснее технократа, чем товарищ Москвин, Александр не встречал; однако, как умел, отговорил отчаявшегося машиниста. В разбухшую записную книжку, о которую сквозь нагрудный карман сейчас стучало сердце, был занесен компромиссный итог беседы, почерпнутый из Корана: «Но как день из ночи, Аллах выводит из мертвого живое…»
Вдоль дороги тянулись мрачные карьеры, и в Аллаха, положа руку на сердце, Александру не верилось.
Момент затишья стоял в долине. Дневная смена на плотине кончилась, ночная не началась. Утратив свою тень, он поднимал улегшуюся пыль, которая повисала за ним шлейфом. По левую руку призрачно возник завод железобетонных конструкций. С другой стороны белел отвесный утес, у подножия которого множество камней снова обратили внимание Александра своим явно неслучайным расположением. Кое-где между ними были воткнуты таблички.
Он оставил дорогу и поднялся к подножию.
Это было кладбище. Дощечки были натыканы вместо крестов. Он сел на корточки. На камнях имена были выписаны масляной краской, а на дощечках просто послюнявленным химическим карандашом: Иванов, Петров, Сидоров…
Женских не было. Но не это поразило, а возраст покойников. Их юность. Под камнями, под суглинком азиатским разлагались русские парни — все до одного моложе Александра. Он стал записывать фамилии, но их было слишком много. «Трудовой фронт» здесь отнюдь не только газетное клише. Ограничившись этой заметкой, он поднялся, постоял, перекрестился и вернулся на дорогу.
Перед входом в Энергетик он разминулся с «Волгой» легкого на помине начальника строительства. Лобовое стекло новенькой машины было в трещинах рикошет камней, стреляющих из-под колес. Пристегнутый ремнем безопасности Москвин — яйцевидная голова и лицо римской статуи — смотрел прямо перед собой. Осторожничая в виду неровностей, шофер вывозил этого фанатика прогресса под сень струй — в огороженный и охраняемый милицией оазис, который местные низы, конечно, называли «Дворянским гнездом». Туда им переместили тень, пересадив деревья из уничтоженных кишлаков. Место под солнцем в этом адском пекле каждый мог найти, а вот тени здесь жизненно не хватало. Не говоря о том, что воздух товарищ Москвин загрязнил в сорок раз выше допустимой нормы: добыты на него и эти данные.
Над Энергетиком, на восточном окоеме долины, засветился выписанный лампочками профиль огромной лысой головы с лозунгом под ней: «…ЛАВА ПАРТИИ!»
Электричества на идеологическую работу здесь не жалели, но налицо был дефицит «лампочек Ильича».
Карьеры, свалки и бараки скрылись за блочные дома главной улицы конечно, тоже Ленина. Трудящиеся за окнами ужинали и выпивали. К месту проживания на центральной площади Александр подходил в свете аргоновой вывески. В этой Богом забытой дыре она полыхала синим огнем на трех языках: МЕХМОНХОНА-ГОСТИНИЦА-HOTEL.