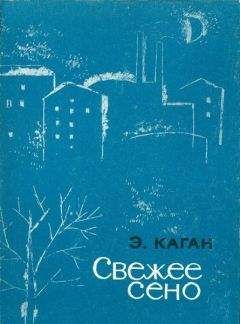Тимоха молчал, не понимая. Он действительно не понимал, но Гесл ему объяснил:
— Девушка — моя, я давно собирался расписаться с ней, слышишь, брат?.. Нечего в чужие сапоги влезать…
Теперь Тимоха все понял. Глаза его чуть не выскочили из орбит, и он выпалил:
— Девушка, говоришь, твоя?.. А знаешь ты хоть, как она выглядит?.. Много ли раз ты ее видел?.. Мне перед тобой нечего стесняться: я нянчился с ней, как с ребенком, ухаживал за ней, а ты говоришь, что девушка твоя… Как же это?..
Тимоха прокричал все это и замолчал. Он был опустошен. Вся лава изверглась, и огонь затих. Он больше не мог наступать. Он понимал, что девушку на двоих делить нельзя, и совсем забрать ее, девушку, нельзя, и совсем оставить ее тоже нельзя. Одному нужно уступить… Но кому?.. А ответа на это у него не было.
Тимоха молчал. Он почти такие же сцены видел в кино, но он никогда не думал, что такое с ним может случиться.
Теперь Тимоха ничего не мог, теперь Тимоха не знал, как ему быть. Две ноги в один сапог, знал он, не влезут. Он вставил ногу, и ему жмет. Гесл, видел он, трясется, и вот-вот вырвется у него вопль. И Тимоха подумал: у Гесла, должно быть, нога глубже ушла в сапог.
Гесл, построивший каменный дом, сам каменной стеной стал ему на пути. Он, Тимоха, почувствовал, что каменная стена преградила ему дорогу, и ему все равно не пройти.
— Ты, может быть, прав, Гесл… я, должно быть, тут лишний.
И еще тише, с болезненно-смиренной улыбкой прибавил:
— Она, должно быть, по твоей колодке… Ну что ж, носи на здоровье!.. А я-то думал, сапог по мне, попробовал влезть.
И Гесл думал, что Тимоха неправ.
И Гесл думал, что Тимоха прав.
И они сидели друг против друга, злились друг на друга, сочувствовали друг другу.
Прес впервые в жизни увидел Тимохину подкладку. Сегодня, когда верх порвался, он вдруг увидел, кто такой Тимоха.
Прес подал ему руку, свою большую руку.
И оба пошли к двери. С одной стороны — зеркало, с другой — окно. В зеркале они увидели друг друга. И им неловко было друг перед другом. Они повернулись к окну. И от окна уже не в силах были оторваться.
Они смотрели расширенными глазами.
Во дворе при свете красных, синих, желтых, зеленых лампочек гуляла Ципочка с сыном Диванчика.
Он, Диванчик, вел под руку их Ципочку, родную, кровную Ципочку. Да, этого и Тимоха не ожидал.
Он не мог поднять глаза, он еле-еле шевелил губами:
— Ну, Гесл?.. Ты построил дом… Забрал его у Диванчика… Мы все забрали у буржуев… Так вот приходит такой Диванчик, буржуйский сынок… Он ей, должно быть, булавки покупал золотые… Она это любит… И она к нему пойдет, Гесл…
— Пусть идет к нему, нам она не нужна, слышишь, Тимоха… Нам все будет принадлежать, все, что нам нужно. Вот мы взяли дом и превратили его в куколку. Красивую куколку мы из него сделали… Но все, что нам не нужно, мы отбрасываем. Тряпье мы отбрасываем, понимаешь?..
Тимоха начал понимать, он почувствовал, что в голове у него проясняется.
Он шел и бормотал:
— Гляди… да… дом… вот он стоит… вот она стоит, твоя каменная невеста… такая, Гесл, никуда не убежит…
Они вышли на улицу, и за домом, который обвешан был лампочками красными, синими, желтыми, зелеными, стояло много других домов, они стояли как братья, сестры, это была большая семья домов — все в огнях, и они перемигивались, словно рассказывая, как люди клали кирпич к кирпичу, подымали этаж за этажом.
Теперь у этих людей праздник. Теперь исполнилось десять лет с тех пор, как эти люди-строители сами стали хозяевами этих домов.
И Гесл смотрел на все эти дома. И ко всем чувствам прибавилось еще одно чувство — радость. Тут есть и его доля. Вот она стоит, его «каменная невеста», он тоже построил дом!
А ночь была ясная, и небо было чистое, и луна — как золотое блюдце.
1
В одно пасмурное утро Айзик Карп выехал из местечка Бибички, и в одно прекрасное утро прибыл он в большой новый город на Урале.
О выезде Айзика Карпа весьма скупо сказано будет. Нужно только упомянуть, что все девушки пешком провожали его до железнодорожной станции и что у некоторых из них глаза блестели.
И да не подумает никто, что это только красивые слова, — это сущая правда. Таких девушек, как в Бибичке, дай бог каждому. Вы не знаете этих девушек.
Белыми крылышками трепетали их снежно-белые платочки, а у некоторых из них точно так же трепетали и сердечки, пока поезд не скрылся, оставив после себя, как говорится, только дым…
И девушки другой дорогой вернулись в местечко…
Ему, Айзику Карпу, в минуты уныния казалось, что вечно девушки Бибички будут прогуливаться в переулках…
И он тоже вначале тосковал.
Но вот на поезд надвинулась Волга…
О эта Волга! Она раскрывалась перед его глазами, как огромное наглядное пособие по диалектике — волны беспрерывными письменами складывались для него в один незыблемый закон: все течет, все меняется…
Его восхищали огни уральских городов на горах. Ночами эти огненные города будто не на горах стоят, а врублены в горы, и горы тогда подобны высоким небоскребам со множеством светящихся окон. Так кажется в жаркие летние ночи, когда голова светла, а глаза опьянены.
Миновали одну часть света, въехали в другую, а дорога впереди еще далекая, как Млечный Путь на небе. Едешь, едешь, и конца-края нет твоей родине.
2
Домны, поджигающие небо, коксовые печи, извергающие огненные столбы, блюминг, перелистывающий горы железа, металлические переплеты эстакад, которые будто созданы великолепия ради, как некое индустриальное украшение, — о, если бы Айзик мог назвать все части этих сооружений, как умеет он назвать каждый вылупившийся из земли грибок в лесу при местечке Бибичке.
Но мы ни в коем случае не сравним его с выброшенной на берег рыбой, о нет!
И Айзик Карп строит пока бараки. Но взгляните, как этот человек смотрит на все широко раскрытыми глазами, глазами, которые сами светят в темноте.
И людей он, как у себя в местечке, понимает с первого взгляда.
Он знает, что, если начальник строительства ходит пешком, значит, все в порядке, а носится начальник на автомобиле — непременно где-то прорыв.
А главное — и его, Айзика, хорошо понимают. У него такой спокойный, доверчивый вид, такое лицо с ясными, словно в голубом спирту вымытыми глазами, что, встречаясь с ним, люди улыбаются, как после отдыха. А ведь весь город усиленно трудится.
Так же вот и секретарь комсомольской ячейки Нина Герасимова улыбнулась ему однажды. Она проходила мимо и не могла не улыбнуться.
— Есть уже у тебя тут друзья? — спросила она.
— Пока нет, — ответил он.
— Нехорошо человеку в одиночестве быть! — библейским тоном сказала эта совсем не библейская девушка. — Заходи ко мне, — просто закончила она, носовым платочком стирая с лица улыбку.
С наступлением лета Айзик Карп вооружился пневматическим сверлом и пошел отбивать руду. Потом научился водить экскаватор. И где бы он ни работал, его всюду премировали, его всюду отмечали. Одну за другой глотал он книги по металлургии.
3
Зимняя ночь. Небо будто слилось с землей. Метель. Вьюга. То и дело кто-то стучится в окно. Выглянешь — нет никого, только ветер бушует.
Айзик Карп сидит на диване против зеркала. В зеркале видит он самого себя. Скучно одному, когда на улице вьюга воет.
Когда миллионы яростно крутящихся белых пушинок заполняют все пространство между небом и землей, — невесело тогда оставаться с глазу на глаз со спокойным, безучастным зеркалом. И Айзик отворачивается. Он сидит и думает. Но и думать нелегко, когда на улице метель. Мысли путаются.
Стук в окно. Кто-то стучится. Но нет, это метель. Часы отбивают восемь ударов.
Никто не стучится… Да и кто к нему постучится?.. Айзик спохватывается, что у него тут нет, собственно, ни одного близкого друга. Не потому, что здешние люди чужды ему, а потому, что он все бежал и бежал наперегонки со временем, и ему некогда было знакомиться, и ему некогда было дружить.
И Айзик вспоминает девушек в местечке Бибичке, и он спохватывается, что он о них забыл… И ему вспоминаются улыбки, мимо которых он прошел, и ему вспоминаются взгляды, на которые он не ответил.
А на улице вьюга воет. И почему эти мелкие снежинки выстукивают в черное окно такую мелодию одиночества? И почему они вызывают такое беспокойство?
Айзик стосковался по другу.
И, стосковавшись, он вспомнил о Нине Герасимовой, которая однажды, летним днем, улыбнулась ему перед закатом солнца. Ни с того ни с сего вспомнил.
Да, она улыбнулась ему как раз перед заходом солнца.
И Айзик уже одет, и книжка у него уже под мышкой. При чем тут книжка? — Так, по привычке.
Вокруг фонарей — пляска снежинок. Каждая снежинка освещается со всех сторон. Нет у нее теневой стороны.