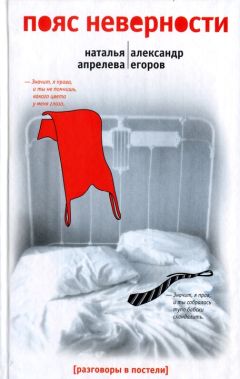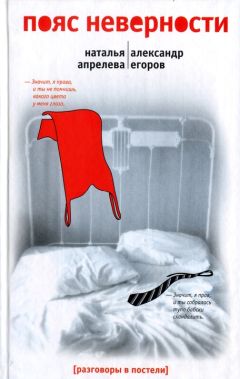«Ну да, это джинсы, это кроссовки, что поделать, чаще я шныряю в джинсах, так что беседы о литературе придется отложить до чулочного случая, а сейчас кресло поворачиваем, пристроим меня на джинсовые колени внизу и поговорим об Уинстоне Черчилле. Я хорошо разговариваю с набитым ртом, нет, серьезно, можно даже разобрать какие-то слова, почти все, вот, например, так. Успеть за шестьдесят секунд можно — положить правую руку у членского основания, чтобы большой палец был отдельно от остальных, и небыстро совершать восходящие спиральные такие движения, чтобы ладонь упиралась в итоге в твой рот, то есть в мой рот, конечно, в мой, потом также вниз, это прикольно, нет? Черчилля раздергали на цитаты и практически этим, что ли, обесценили, немного шепеляво получается, но понятно да, да, а я все могу простить ему за слова про не сдавайтесь, никогда-никогда-никогда не сдавайтесь, а ты, тебе подходит такой девиз, почему-то не отвечаешь, да, пятьдесят девять, шестьдесят, тринадцать килокалорий, увидимся…»
Вдруг домашняя тишина обрушивается звонками в дверь. Гвендолен неохотно поднимается с колен и превращается в меня, я подхожу к двери, заглядываю в глазок и вижу там Его, это настолько невероятно, что я глупо замираю и зачем-то спрашиваю: кто? Он глухо смеется там, снаружи, я ловлю Его смех открытым от удивления ртом и дергаю ключом, поворачивая его не в ту, конечно, сторону.
— Привет. А я вот к тебе.
— Что это вдруг? — не могу сдержать идиотски-счастливой улыбки.
Он осознал, думаю я, насколько я дорога ему. Не хочет расставаться со мной более ни на минуту. Приехал. Без предупреждения, просто так, просто потому, что хочет видеть. Ах, думаю я, что может быть лучше того, что тебя просто хотят видеть?
Лихорадочно вспоминаю, во что я одета. Белая футболка, серые шорты, умытая, надо немедленно нарисовать хотя бы брови, хотя вроде бы коррекцию делала позавчера и линия должна быть идеальной.
Он нерешительно мнется, ничего не говорит, и я принимаюсь лихорадочно болтать, Гвендолен помогает мне, потряхивая яркими волосами. Надо только не закрывать рта подольше, чтобы Он почувствовал себя уверенно, ведь ему было непросто вот так — приехать.
Я включаю чайник, достаю упаковку китайского чая, оолонг, именно он считается в Китае черным, я склонна доверять мнению большинства. Ставлю на стол блюдца, чашки, откупориваю коробку конфет. Нервно закуриваю. Он тяжело молчит. Я безостановочно говорю:
— Лет пять назад мне вздумалось наварить варенья, абрикосового, с ядрышками, когда-то меня нельзя было оставлять с банкой такого наедине, вообще в детстве я ела чудовищно много, наверное, для того, чтобы однажды выбрать Путь хорошей хозяйки, стать на время Богиней Засахаренных Ягод. Я разыскала рецепт, непростой, с отдельным приготовлением сиропа, с отдельным увариваем ягод и прочими украшательствами. Ядрышки вообще следовало на какое-то время замачивать в молоке, причем с добавлением в это молоко чего-то еще дополнительного.
Он следит за мной взглядом, взгляд тоже тяжел. Открываю холодильник, вынимаю бутылку джина, лед. И разговариваю, разговариваю:
— Так вот, это волшебное варенье я ловко проплеснула вместо чистой банки себе на пальцы. Кожа очень интересно, на глазах, зашипела, съежилась и буквально исчезла, испарилась? К сладкому аромату абрикосов добавился запах горелого мяса. Температура кипения сахарного сиропа высока, и он густой…
Он подходит к кухонной раковине, открывает воду, моет руки, тщательно намыливает жидким мылом, смывает, намыливает снова. Подаю ему полотенце, небольшое махровое полотенце для кухни, на нем нарисованы грибочки и листики. Спрашиваю, как добрая хозяйка:
— Может быть, удобнее в ванной комнате?
— Нет. — Он быстро хватает полотенце и тщательно вытирает руки.
— Так я продолжу?
— Будь добра.
— Вареньем на пальцы… Да. Сначала было не очень больно, потом очень больно, потом прошло, а на месте ожога вылупилась новая кожа, ярко-розовая, блестящая, туго натянутая, вариант барабана, и не моя. Чужая. Это была Новая кожа, к ней надо было привыкнуть. Со временем я привыкла, но и сейчас она другая. Посмотри!
Я показываю ему правую руку, он морщит лоб.
— Какие-то вещи помимо варенья становятся ожогом ста процентов поверхности, после таких ожогов не выживают.
«Встреча с тобой — такой ожог. Что же остается? Навертеть покойнице веночков, положить между холодных и вспухших губ дикую розу, засыпать могилу пластмассовыми цветами. Дубовый крест. Вся моя кожа ярко-розовая и блестящая. Все мои мысли — о Нем, все мои улыбки — Ему, все мои слезы — для него. Для тебя. Для тебя».
Разливаю чай, разливаю джин, достаю лед, последний страстный монолог, разумеется, не произношу вслух.
Он смотрит равнодушно, я понимаю, что ничего этого говорить не стоило бы. Может быть, стоило рассказать о чем-то, совсем не имеющем отношения. Ни к чему.
Вновь открываю рот. Новую тему не приходится искать, достаточно выглянуть в окно, просто бросить взгляд.
— А не удивительно ли, что Новый год все равно будет, хоть мне давно не семь лет, я не целую любимую елочную игрушку, не откусываю мелкими кусочками шоколадное полено, редкое праздничное кушанье. Моя мама выучилась его готовить по журналу «Работница»: печенье крошится в сладкую муку, заливается растопленным шоколадом, сливочным маслом, дополняется измельченным мармеладом, замораживается в морозильной камере.
— Шоколадное полено? — Он наконец-то оживляется немного. — Приготовишь мне шоколадное полено? На Новый год.
— Обязательно.
У Него звонит мобильный, он выпивает джина, хрустит льдом и сбрасывает звонок, морщится снова. Лучше сейчас не думать, не соображать. Лучше продолжать говорить:
— Вчера на Красной площади уже была установлена елка, главная елка страны. Нет снега, не знаю, многим это важно. Мне все равно.
— И мне все равно, — пожимает плечами Он, — и мэ вэ эр.
— Когда нет снега, как-то уместнее вспоминать самый отвратительный Новый год, отмеченный тобой. Правда?
— Тебе виднее, — отвечает Он, опять пожимает плечами.
— Самый отвратительный Новый год встречала на первом курсе, собирались в общаге, я была ужасно влюблена в мальчика Гошу. Прогульщик, дебошир и пьяница, всеобщий любимец, прелесть, что такое! Гоша не подозревал насчет моего к нему отношения…
— Перестань, — говорит Он.
Ходит по кухне. Отпивает джин. Китайский чай остывает в чашке.
— Не нужно мне про твоего сраного Гошу. Почему ты вообще об этом говоришь сейчас?
— Может быть, потому, что ты молчишь?
— Просто не могу сосредоточиться.
— Наверное, действительно, зря я это…
— Я устал, очень устал. Проблемы. Могу рассчитывать на тебя?
— Конечно.
— Хотел бы несколько дней пожить здесь.
Он не говорит: с тобой.
— Что-то случилось?
— Конечно, случилось! — Он злится и странно светлые глаза светлеют еще больше. — Только не допрашивай меня, хорошо?
— Я не допрашиваю тебя.
— Да? Как тогда это называется?
— Что именно?
— То, что сейчас происходит.
Я отвечаю каким-то дешевым штампом и с неизвестной целью удаляюсь в спальню. Хотя чего уж там, с известной — разреветься.
Ну вот, дорогой дневничок, только что позвонила квартирная хозяйка и очень борзо потребовала денег. Разговор она начала так:
— Во-первых, я поднимаю арендую плату на пять тысяч рублей в месяц, а также вменяю вам в обязанность немедленно погасить существующую задолженность за газ в размере четырех тысяч семисот пятидесяти восьми рублей девяноста трех копеек…
Меня чуть не стошнило от этих кошмарных числительных. От возможного же приезда квартирной хозяйки у меня вообще грозила открыться неукротимая рвота беременных. Эта ужасная старуха зовется Ларисой Дмитриевной, типа бесприданница из старческого кино, носит болоньевый плащ голубого цвета и пуховый пыльный платочек. Вырванные из моих рук купюры заворачивает в газету, еще в газету, потом в тряпицу, потом укладывает все это дело на дно страшной вытертой сумки с портретом Аллы Пугачевой и маскирует килограммом-двумя картошки, клянусь!
Я быстренько попыталась свернуть неприятный разговор, но Лариса блин Дмитриевна сказала, что выселит меня с участковым от слова «участие», и пришлось тошниться еще минут пятнадцать. Один хрен, денег-то у меня нифига, надо срочняком выпрашивать у Любимого, а Любимый отбыл на раскрашенном такси. С номером шестьсот шестьдесят семь. Набрала еще раз, никакого результата, разве что прослушала типа эротический голосок электронной давалки: абонент не отвечает или временно недоступен, сссука! Но где-то надо было раздобыть долбаную «арендную плату», причем повышенную, и я натянула шорты, отыскала под столом резиновые шлепанцы сорокового размера, зато Балдинини, как сказал Любимый.