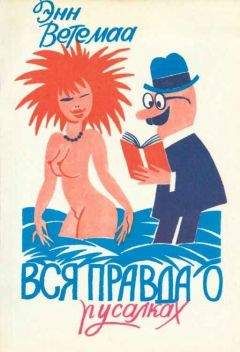Это неожиданное предложение озадачило Калева: известно, что однодневные знакомства предосудительны и противоречат общепринятым нормам морали. Но, приглядевшись к Магде, он нашел, что уж она-то никак не похожа на опасную соблазнительницу. Глоток вина да пара слез в жилетку — вот, казалось ему, и все, на что могла претендовать Магда, весь ее удел. Идти к ней он все-таки отказался — к чему, право: у пего самого тут, рядом, номер в гостинице. Магда была не против: «Почему бы и нет!» — сказала она и чуть жеманно сложила на груди скорбные натруженные руки. Калеву показалось, что приглашение в гостиницу даже прибавило ей женской гордости, чувства собственного достоинства.
Видно, не часто она бывает в таких местах. Конечно, это не отель, а всего-навсего захудалая гостиничка, но даже и она вряд ли уступит апартаментам самой Магды на улице Рабчинского. Калев отчего-то подумал, что дом Магды едва ли блещет чистотой — во всяком случае, мелькнувшему из-под платья краю комбинации было ой как далеко до белизны. Но растроганный Калев ни в чем ее не винил: ему хотелось все понять и все простить. Первым долгом — понимание и прощение.
И действительно, вскоре они покинули это заведение. У Магды он взял только рубль — на бутылку «Старого Таллина», который, как сказала Магда, ей сильно нравится. Беленькую она не пьет, и Калеву это понравилось — женская скромность. Он подумал, что в гостинице они могут очистить один апельсинчик — не больше! — и, возможно, за рюмочкой ликера он сумеет немного утешить Магду, растолковать ей, что мир не так ужасен, как полагает эта многострадальная женщина.
Однако для начала пришлось потолковать не с Магдой, а с дежурным, чей нос утром (о, как прекрасно и обнадеживающе было еще сегодняшнее утро!) напомнил Калеву малину. Пробило, правда, всего пять часов дня, а посетители могли находиться в гостинице до 23.00 — значилось в инструкции над головой дежурного, но он был очень и очень против того, чтобы пустить Калева и Магду вдвоем в номер. Нет понимания, нет сочувствия, подумал Калев, хотя и мы выглядим не такими уж милыми и добропорядочными. И откуда, в конце концов, этому знать, что Магде нужно всего-то слово утешения, глоток вина да душевный разговор о музыке? Зато Магда оказалась гораздо смекалистей, и когда она забыла на углу стола рублик, дежурный презрительно замолчал и снова полез в нос. Калев Пилль принципиально против таких взяток, но сегодня счел разумным не вмешиваться.
Характер у Магды был мягкий, и слушать она умела. Пока они прикладывались к ликеру, Калев поведал ей о несчастье одного своего знакомого — работника культуры, которого обвели вокруг пальца зарубежные эстонцы. Его ловко попользовали, и то, что говорил этот человек, между прочим, хороший друг Калева, в дьявольски искаженном виде напечатали в одном нью-йоркском журнале. А бедный друг еще позволил себя фотографировать — в бассейне и кооперативе.
Магда и этому человеку посочувствовала, и Калева утешила: не стоит ему чересчур убиваться из-за друга, с работы того, конечно, снимут, но в колхозе или в мелиорации можно и побольше заколотить… Нельзя сказать, чтобы эти речи порадовали Калева Пилля — он прямо-таки разъярился: другу больше всего нравится именно его духовная работа, деньги для него, знаете ли, дело десятое. На это Магда заметила, что тогда все, несчастным человек сделался.
Тут она стала клевать носом и попросила позволения прилечь: вчера работала в ночную. Ей всего на минутку, отдохнуть. Калев, естественно, не возражал. Как человек благовоспитанный он отвернулся и глядел в окно, пока Магда не улеглась.
Потом он один сидел за столом, кончиком языка слизывал с чайного стакана — другой посуды не нашлось — липкий ликер и пребывал в некоторой растерянности.
— Я вам, наверное, мешаю, — донеслось с кровати. Из-под одеяла высунулась нога в шелковом чулке, на ступне красовалась дыра по меньшей мере с утиное яйцо.
— Нет-нет! Нисколечко!
— Вы тоже могли бы прилечь рядышком. Отдохнуть немного. Или… или я так уж стара и безобразна?.. Можно положить между нами одеяло.
Калев Пилль не мог видеть слезы в глазах женщины, которая пришла сюда за утешением. Что ему оставалось, как не быть джентльменом? Он разделся до трусов и рубашки и тоже скользнул под одеяло. Двое горемык молча глядели в потолок, а с потолка на них смотрел абажур с отколотым краем и вычерченный трещинами зоосад.
Шершавая, короткопалая рука погладила Калева Пилля по лицу.
— Бедненький, это ты о самом себе рассказывал, это ж ты и был…
— Что-о?!
— Ну, тот, который в иностранный журнал угодил. Да ты не отпирайся, чего смущаешься. Подумаешь, конфуз какой.
И Калев не стал отпираться: чего, в самом деле, конфузиться, так ведь оно и было, ничего не попишешь. Так уж устроен мир, что он, Калев Пилль, должен теперь мириться с этой грязной комнатенкой, липким стаканом и апельсиновыми корками на столе. Ему приходится лежать бок о бок с Магдой, у которой жалостливое сердце и здоровенная дыра на чулке, с Магдой, которая любит песни о море и гитарах, и сердцах, в которых бросают якоря. А где бросить якорь ему, Калеву Пиллю? Он сглотнул слезы.
— У тебя глаза мокрые. Бедный милый большой красивый мальчик.
Над Калевом склонилось лицо в паутине мелких морщин.
— Магда обсушит твои глазоньки поцелуями, только не плачь больше!
И Магда стала целовать его глаза. У нее оказались неожиданно пышные плечи. А Калеву становилось все горше и горше. Слезы капали и капали из глаз от этого смешения нежности и взаимности.
— Я ведь тебе сочувствую, — шептала Магда, и дыхание ее было душным и сладким.
— И я тебе, — курлыкал Калев Пилль.
В довершение всего — чудеса, да и только! — с треском включился репродуктор и выплеснул на них бесхитростную песенку про море и гитару.
Когда Калев Пилль проснулся, уже смеркалось. Хотел приподнять голову, но шея была словно ватная. Где я? А память уже все восстановила, весь этот жуткий день. Калев окаменел, не смея даже шевельнуться. И зачем он вообще просыпался! Сон был глубокий, черный, как сажа, и, как сажа, мягкий; милосердный, без сновидений. Хорошо бы скользнуть из него прямо в небытие, такое же, как этот сон! Спустя мгновение он рискнул двинуть рукой, тянул ее дальше, дальше — кровать рядом с ним была пуста. И то хорошо! Да, это было вроде маленького подарка. Рывок — и он уже сидит. Магда… Калеву вспомнились рассказы о женщинах такого сорта. Может, он уже обобран подчистую? Не дай бог и брюки?.. А вдруг — еще страшнее! — он подцепил какую-нибудь ужасную болезнь?! Он бы со стоном упал обратно в кровать, судорожно заглатывал бы воздух, по испуг был слишком велик: он просто вскочил на ноги. Боль прихлынула к голове, ему почудилось, что голова словно бы съехала со своего привычного места куда-то влево и теперь крепилась к телу лишь скрученным из саднящих нервов шнуром, который вот-вот оборвется. Калев стоял подле кровати, расставив ноги и уронив голову, как оглоушенный бык, и шумно дышал. Постояв так с минуту, он опасливо двинулся к столу: пиджак цел, а портмоне?.. Тоже, на месте был и остаток денег, и документы. Даже в бутылке оставалась почти четверть содержимого. С тяжелым отвращением к себе и ко всему миру, но все же поуспокоившись, Калев присел, поднес бутылку ко рту и сделал пару глотков. При этом он зажмурился, под веками проскочили крохотные электрические искорки, они были словно мерцающие звезды, но только не на синем, а на липко-коричневом фоне того самого мерзкого цвета «Старого Таллина». Он водрузил бутылку обратно на стол и заметил письмецо:
«Дорогой друг!!!
Ты спал так сладко, что мне стало жаль будить тебя!! Ох и здоров же ты храпеть! Спи спокойно! Мне пора бежать на работу! Если ты дружок опять приедишь в Таллин то знай что Магда живет на улице Рабчинскава 19–27 (во дворе рядом с прачичнай!) С тобой здорово хорошо потолковать за жизнь и ваабще!!!
Бывай здоров! До радостного сведаньица!
Твоя Магда!
P. S. Я думаю ты не очень рассердишься что я взяла два апельсина дочурке???
P. S. У нас место кладовщика вакантное!!!
P. S. В голову никаких глупостей не бери потому что я работник общепита и санитарная книжка у меня в парядке!!! Надеюсь ты понимаешь???
В жизни смелым сильным будь
И пробьешься в люди ты!!!
Делай дело и шути
Ты на правильном пути!!!»
Калев долго пялился на письмо, потом перечитал его и подсчитал: 27 восклицательных и 6 вопросительных знаков, точек и запятых не было. Все пожелания и поучительный стишок, призванный вселить в него уверенность — похоже, из чьего-то старого альбома, — были выведены явно с любовью и терпением, химический карандаш все время слюнявился. Впору было умилиться, а Калев боролся с приступами тошноты. Предложить мне — место кладовщика! Вот, значит, до чего докатился!