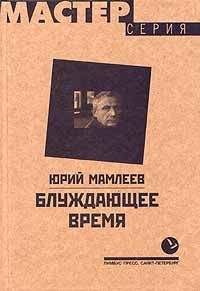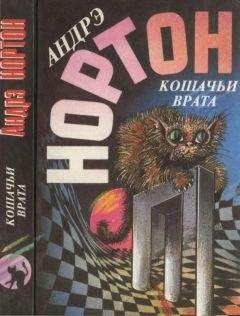Все как-то молча, но с удовольствием согласились. Быстро накрыли на стол, кровь овечки смыли («в тот мир пролилась, что ли», – подумал Павел), появилось пиво в деревенских кувшинах… Выпили… Понемногу тишина рассеялась.
К Танечке первой вернулся земной разум.
– Скажите, Григорий Митрич, – начала она, отпивая душистое пивко, – суету мира сего вы нам показали убедительно. Наглядно. И его бытие тоже. Но ведь есть вечное нетварное Я внутри нас. И вы тоже от него ушли… Может быть, и это вы нам объясните, в таких же ярких красках, так же впечатляюще? С телом понятно, а что с ним, с этим нетварным светом?
Орлов расхохотался.
– Много хотите, Танечка… Если серьезно, – его лицо вдруг стало совершенно отрешенным, – то вот здесь наши коммуникации обрываются, телефон не работает… Забудьте… Язык, понятия здесь беспомощны, бездна недоступна, и полна она не звездами, а непроницаемой тьмой… Это насчет так называемого «ухода» от вечного Я и Света.
– Но мы ведь, наоборот, именно это Вечное и хотим реализовать. Вершина мировой духовной традиции… – ответила Таня.
На лице Орлова проявилось какое-то малозаметное усилие, словно он вернулся памятью к чему-то безумно отдаленному.
– Конечно, Таня… – усмехнулся он. – Так и надо… Вы стремитесь… Похвально. Без вечного Я вообще не о чем говорить, люди ведь не мыши все-таки.
Таня согласилась.
– Да и мир этот презирать надо в меру, есть в нем особые, скрытые аспекты, ой-ей-ей! – Орлов расхохотался, – так что давайте выпьем за эти неведомые аспекты…
…Они мчались обратно, в Москву, родной железной тропой, направление было на Ярославский вокзал.
Тьма за окном – там, в пространствах – была необыкновенно живая, она точно обнимала человека, и давала ему рождение, прорыв… В самом вагоне, кроме них, было очень мало народу, в дальнем углу только тихонько пели народную песню. Песня была какой-то сумасшедшей красоты.
Павлушу все эти походы к таинственным и великим интеллектуально, и даже духовно, успокоили, но внутри все равно сидел нехороший, подозрительный, точно с двумя головками, червь. Не наш этот червь был, а, скорее, потусторонний. Поэтому порой, когда находило, Павлуша внезапно для окружающих срывался. То старушку, пенсионерку одинокую, в троллейбусе в щечку поцелует: мол, молодая еще, нам время нипочем, с его бегом. То, наоборот, на какого-нибудь ребеночка годовалого в колясочке так кинет взглядом, что тот уйдет в себя…
Но все-таки сдвинул его со спокойствия не старушка, не младенец, а звонок Безлунного.
– Нехорошо, Паша, успокаиваться, нехорошо, – задребезжал в трубке старчески-надрывный голос Безлунного. – Одни только покойники успокаиваются, а ты у меня вон какой прыткий: боле чем на четверть столетия назад забежал. То ли еще будет…
Павел рявкнул и повесил трубку. Но уже водоворот мыслей захватил его.
Три мысли особенно назойливо выплывали из этого водоворота: о Вере, о сыночке и о родителях.
Перед родителями он чувствовал себя виноватым: зачем, хоть и не разобрался, выбил зубы папаше, да к тому же еще до своего появления на свет. Отец тогда, наверное, все-таки почувствовал что-то неладное, возможно, это заело его, оттого и скончался рано.
«О сыне ничего не знаю, – думал Павел, – но если встречу – поклонюсь, просто от нервов или от безумия. Верочка – тоже в могиле. Как и где искать? С другой стороны, все, что было, что прошло, по-прежнему вертится на каком-то своем уровне, пока высшие силы не смахнут эту Вселенную вместе с ее бредом. Так почему же опять не заглянуть туда, в прошлое, встретить Веру, поцеловать в щечку, объясниться, как и что, предупредить, чтоб не хворала. Да и папаше неплохо было бы принести извинения. Только поверит ли, если явлюсь?»
Тут как раз опять звякнул Безлунный: по-стариковски беспокоился о своем подопечном. Павлуша, к тому же хлебнувший с горя стакана полтора водки, попросился назад. Безлунный долго хохотал, словно лопнувший бегемот.
– Ах, какие вы сладкие у меня, – бормотал он сквозь смех. – Но ведь такие нарушения Божественной гармонии случаются не часто, даже в наше время, дорогуша… Не я ведь нарушитель-то. Я только знаю, направляю вас, недоумков, – туда, в дыру… Терпение, потерпите чуток, молодой человек…
– Старик, ты лучше, чем звонить, пришел бы ко мне, попили бы чайку… с вареньем…
И Павел опять повесил трубку. Втайне-то он вовсе не хотел туда, в дыру, боялся, но главная причина страха была не в том, например, что не возвратишься, нет, он до судорог страшился встретиться в прошлом с самим собой, лицом к лицу. И, хотя гипотеза о Высшей Душе, как о Боге (или, на худой конец, Его подобии) могла бы примирить с чем угодно, но Павел, во-первых, почему-то не совсем верил в такую мощь собственной души, во-вторых, чувствовал, что в любом объяснении «такого» феномена всегда может быть что-то не то, и потому порой он думал только об одном: бежать. Бежать и от прошлого, и от настоящего! Почему-то иногда, но с опаской, хотелось бежать в будущее, потому что там можно было бы окончательно пропасть, но в эдаком, высшем смысле. И, наконец, удовлетворить возрастающее тупое любопытство: что будет со всей этой планеткой и ее тревожными, нередко убивающими друг друга, обитателями?
Егорушка, посещая друга, журил его за все это, за слабость человеческую, грозился опять насторожить Марину. Но сам плакал, пил, и утверждал, что, наоборот, не боится встретиться с собой физически, никакого взрыва и распада единства-де не будет, невозможно и сумасшествие, потому что они подготовлены, но хочет он видеть себя не в прошлом, а именно в будущем. И скорее, даже в совсем далеком будущем, перед концом всех времен и начал, но еще в виде существа… увидеть, подмигнуть, хлопнуть по брюшку и спросить: как дела? гибнем? не получается? Если да, может, сбежишь к нам, в двадцать первый век, вместе гулять будем, как безумные, все разнесем… Так говорил Егорушка…
Павлик щурил глаза, улыбался, и лез целоваться с пьяным другом. Но свое не оставлял. Говорил, что все-таки нырнет, спасет Веру, и получится другой вариант того, что прошло и неизменно. Подшутить надо над этими высшими законодателями мира сего, – бормотал он.
В конце концов все выстроилось в одну точку: найти сынка. Он, выпавший из времени, с умом, расщепленным провалом последовательности, наверняка что-то подскажет своему фантастическому папаше. Тем более сыну-то чуть-чуть постарше его, Павла, глядишь. И если бежать в будущее – думал Павел, – то уже вовсе не затем, чтобы встретить себя, не дай Бог, а просто, чтоб вперед, вперед и вперед. К концу начал… И сынка обязательно надо прихватить с собой, ему сподручней… Но как найдешь такого сынка?
И вдруг в один незаметный, дождливый день, когда солнце стыдилось светить, Пашу осенило.
– Да что же это я… – хлопнул он себя по лбу, сидя за чашкой бульона в кафе. – Ведь тетя Тамара-то не ушла от нас никуда, тута она.
Тетя Тамара была Павлу почти троюродной родственницей, но отношения были теплые. И Павлуша сразу же побежал к ней, прямо из кафе, не позвонив, бегом, бегом, словно в будущее.
Остановился перед заспанным жилым домом, пятиэтажкой, разваливающейся на ходу, но квартира у Тамары Ивановны была большая, обставленная по-теплому, по-древнему, с антиквариатом и запахом хорошего кофе, с мягкими креслами и позолоченным самоваром.
– Тетя Тамара, я к вам, сгоряча, – объявил Павел, входя.
– Входи и иди вглубь. К столу, в кресло…
Тамара Ивановна, располневшая дама лет сорока с лишком, белая от изнеженной жизни, уселась рядом. Она пила кофе с пирогами и продолжала его пить. Пирогов было много, и на долю Павла вполне хватало, но он нервически не притронулся.
– Сыночка ищу, тетя Тамара. Помоги, – заявил он.
– Где и когда ты нашалил?
– Где – плохо помню, а когда – сказать страшно… Давно.
Тетя Тамара в ответ только подмигнула Павлу.
Но он надеялся на нее, беря грех на себя: Тамара Ивановна была на редкость способна к экстрасенсорике и прочим банальным видениям, но практиковала редко – а что касается черной магии, то конечно, ни-ни, этого Тамара Ивановна сторонилась как могла и ярко осуждала. Зато кое в чем другом была мастерица.
– Приметы есть? – певуче спросила Тамара Ивановна.
– Ну какие там приметы! Боюсь, на меня-то не похож.
Тетя Тамара бросила на Павлушу прозорливый взгляд.
– Ну хорошо, ради твоего отца попробую. Все-таки браток он мне был, хоть и двоюродный. Давай-ка с тобой медленно порассуждаем, – и Тамара Ивановна отрезала ему и себе по куску слоеного пирога.
– Скорее, скорее! – чуть не взвыл Павел.
Тетя Тамара еще раз внимательно вгляделась в Павлушин глаз. В левый, конечно.
– Тише, тише, Павлуша, – проверещала она. – Я тебе скажу прямо, ты не обижайся, знаешь ведь, что я к тебе благосклонна, так вот: когда твоя мать рожала, я братцу своему, а твоему отцу говорила: непутевый будет паренек у тебя, непутевый…