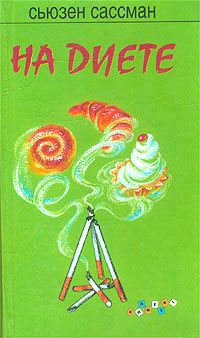И самое главное: ни один из этих вариантов не объясняет появления на моем счету гигантской суммы. Возможно, семизначная сумма на мониторе банкомата — галлюцинация, но количество выданных купюр и платиновая карточка — абсолютная реальность. Я даже тихо прошел в комнату и проверил кошелек. Точно, деньги на месте, карточка — тоже. В прах не превратились и в пыль не рассыпались.
Вот ведь в чем закавыка.
Единственное объяснение: Наташа сумасшедшая миллиардерша, которая зачем-то перевела на мой счет (откуда она про него знала?) несколько миллионов и заранее заказала платиновую карту. Тогда возникает резонный вопрос: зачем? Нет, правда, зачем? Узнала заранее, как жена сообщит мне о том, что уходит к Ави, и решила меня заарканить, поразив дивными историями и богатством? Вот чтобы так серьезно считать, точно надо быть сумасшедшим.
Как ни смешно, но единственное реальное объяснение — самое нереальное. Получается, что мистика — это не мистика, а явная явь. Но этого не может быть.
Тупик.
— Дурак ты!
А я и не заметил, как она вошла, и даже вздрогнул от неожиданности. Обнаженная девушка, завернутая в цветастую простынку, — невероятно эротичное зрелище, это понимал даже я, занимающийся все это время сексом с собственным мозгом. Наташа села, подоткнув простынку под попку, чтобы не касаться нежной кожей липкого пластика табуретки.
— Знаешь, кого ты мне сейчас напоминаешь?
— Крокодила Гену? — попытался сострить я. — «Чебуреки, Чебоксары, нет Чебурашки»?
— He-а. Одного древнего копта, египтянина Антония. Я с ним билась тридцать лет. И ничего не добилась. Он так и не поверил.
— Искушение святого Антония — это про него?
— Ага.
— То есть опять же это ты была дьяволом, который его искушал?
Она зевнула:
— Александр! Вы несносны! Опять за старое? Я, между прочим, многих праведников «искушала». А кое-кому приносила «благую весть», и тогда меня называли ангелом.
— Это я уже понял, это ты мне как раз хорошо объяснила. Но сама посуди, как могу я, взрослый разумный человек двадцать первого столетия, поверить во всю эту мракобесную ахинею?
— Так и не верь. Делай, что хочется, требуй всяческих чудес и исполнения причудливых желаний — и не верь. Это на здоровье. Самое забавное во всей этой ситуации заключается в том, что будешь ты верить мне или не будешь — ничего от этого не изменится, потому что происходящее не зависит ни от тебя, ни от меня. Просто в одном случае у меня работы будет побольше, а в другом — поменьше. Вернее, даже не то что «поменьше», работы-то у меня будет столько же, но будет она совершенно другого рода.
Искушение святого Антония
Засов на дверях заскрипел, щелкнул, и в проеме показалась плотная фигура тюремщика Полбы.
— Выходите! — буркнул он. — Отпускают вас, засранцев.
Камера зашумела, заволновалась. Два десятка человек, плотно набитых в душный каменный мешок с одним-единственным окошком-бойницей, давно уже приготовились к смерти и немилосердно воняли потом, испражнениями и страхом. Два десятка мертвецов. Во всяком случае, так про себя их оценивал Прокл который, конечно же, боялся смерти точно так же, как и остальные, но непрестанно молился, где-то в самой глубине души надеясь на чудо.
Чудо явилось в образе толстого стражника Полбы, прозванного так за здоровый аппетит жизнелюбивого человека. Любил Полба поесть, чего ж греха таить. Часто даже, не удержавшись, накладывал себе мисочку-другую из котла, предназначенного для обреченных. Обреченные-то они обреченные, но на арену должны были выйти своим ногами, для того и кормили.
Сидели давно, постепенно свыкаясь с мыслью, что это и есть их последнее пристанище. И другого не будет. А как их прикончат — зависело от изобретательности римлян и своих же братьев-египтян. Разницы, собственно, не было никакой: что те, что другие были большие мастера умучить так, что смерть стала бы избавлением.
Прокл и боялся мук, и где-то даже стремился к ним, ведь тогда он пожертвовал бы жизнью так же, как Спаситель, хотя это было весьма самонадеянно, и грех было так думать. Вон любимый и ближайший сподвижник Помазанника, иудей Шимон, по прозвищу Петрос, тот даже попросил его вниз головой распять. Считал себя недостойным быть казненным, как Господь.
Но все равно, при всех этих глубокомысленных и благочестивых рассуждениях, Прокл очень не хотел умирать и мучений боялся. Поэтому маленьким мотыльком билась внутри огромная надежда — а вдруг?
И нате вам. Полба погремел засовом, и маленькая надежда превратилась в огромное всепоглощающее счастье. Обреченные обнимались, кричали, плакали, падали на колени и молились, кто как умел. Только несколько человек сразу же ринулись к двери. протискиваясь мимо объемистого Полбы.
— Иди-иди! — подтолкнул Прокла тюремщик. Легонько подтолкнул, не зло. — Императора благодари. Он вашу ересь простил и разрешил. Теперь можете спокойно поклоняться своим богам.
Полба, понятно, не сильно разбирался в теологии, ему было все равно, кому поклонялись эти вероотступники.
Стараясь не бежать, пытаясь сохранить остатки достоинства, сдержать грохочущее сердце и нестерпимую радость, Прокл тоже вышел из камеры, протопал длинным коридором мимо равнодушного привратника и вышел на залитую солнцем улицу. Зажмурился. Сердце все колотилось. И от радости даже подташнивало.
— Господи, Спаситель Помазанник. Спасибо Тебе за радость эту, за спасение моей недостойной души! — шептал он пересохшими губами, подняв голову вверх и жмурясь от яркого солнца. — Знаю я, что это чудо! Знаю, что недостоин я Твоей милости! И только благодарить Тебя могу я, посвятив жизнь свою служению Тебе. Ты мне эту жизнь подарил — Тебе я ее и вручаю.
Ему самому было немного неудобно от того, что он так разнервничался, но что-то же надо было сказать?
А еще надо было решить, куда идти.
Он не знал, сколько просидел в этом каменном мешке, что произошло за это время, он помнил только одно: как за ним пришли, выдернув из привычного и размеренного существования коммуны, и забрали, как забрали всех. И кто теперь живет в том большом доме, где жили они? Кто-то же живет.
Так куда теперь? Прокл решил: к Александру. Все же тот был главным, был старшим, самым знающим. Александр умел четко и просто отвечать на самые сложные вопросы, и наверняка найдет, что сказать теперь единоверцу, спасенному от жуткой погибели. Или куда направиться и чем заняться. Если удалось избежать смерти, то надо как-то устраиваться в жизни.
Единственное, что смущало Прокла, — это то, что к Александру надо было идти среди бела дня. Словам Полбы о том, что теперь их вера благосклонно разрешена сверху, Прокл как-то не очень доверял. А выдавать не только главу общины, но и умницу и великолепного организатора очень не хотелось.
Только выхода не было. Надо довериться сведениям обжоры-тюремщика.
Осторожно, петляя кривыми улочками, Прокл подошел к заветному дому. Решил все же дождаться хотя бы сумерек, а пока несколько часов бесцельно слонялся по великому и славному городу, подмечая перемены, произошедшие за время его заключения. Перемен было немного, однако неуловимо чувствовалось, что времени-то прошло ох как немало. И дело было не просто в том, что сменилась власть, — она и раньше менялась с разной степенью частоты. Сменился настрой. Вот не объяснишь, а чувствуется. Очень любопытно.
У дома пресвитера стоял здоровый мужик с длинным шестом. Прокл попытался обойти его, но мужик бесцеремонно преградил ему путь своей дубиной.
— Куда?
— К Александру.
— Зачем?
Вопрос обескураживающий. Действительно, зачем?
— Надо.
— Не надо! — отрезал мужик и шестом легонько стал отталкивать Прокла от двери.
— Надо! — отчаянно защищался Прокл, пытаясь прорваться внутрь. — Надо! Я его друг! Я его ученик!
— Не надо, врать не надо! — мужик был сильнее. — Иди отсюда, видали мы таких друзей.
— Пропусти его, Савва, — раздался вдруг до слез знакомый голос. — Это свой.
На пороге дома стоял Александр, поседевший, полысевший, но все такой же улыбчивый и родной. Он раскрыл руки для объятий, и только тут Прокл ощутил, сколько времени прошло, как он соскучился, и все, что накопилось, вдруг вырвалось наружу: он кинулся, прижался к епископу и против воли своей разрыдался. Как-то разом вспыхнуло все: и страх, и боль, и одиночество — и теперь он не мог сказать ни слова, только жалобно и шумно сглатывал, когда слезы переполняли, и крепче прижимался к тому человеку, который был единственным свидетелем счастливой, интересной, насыщенной и такой теперь далекой жизни Прокла до каменного мешка. И это было второе чудо за день, и Прокл боялся, что его разорвет от такой невиданной милости Спасителя.