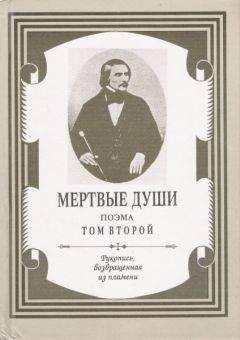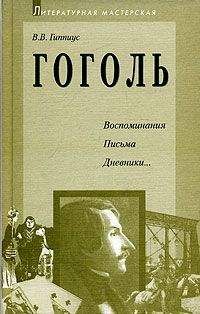— Павел Иванович мне друг… — вставил с потерянным видом Тентетников.
— Ну, тем более, — продолжал генерал. — Но сегодня, может быть благодаря участию именно Павла Иванович, я во многом поменял мнение об вас. И хочу вам сказать: если Ульяна Александровна любит вас и не противится вашему предложению, то вот вам моё отеческое благословение.
— Поздравляю, поздравляю, Александр Дмитриевич! — схватился с кресла Чичиков, — поздравляю, Андрей Иванович! — Он оказался промеж двух господ и жал руки попеременно то одному, то другому, а затем, изловчившись, поймал одного за руку своею левою рукою, другого — правою, прижал их к своей пухлой груди и, улыбаясь чуть ли не сквозь слёзы, говорил: «Ах, как я рад, как я рад!» Одним словом, суетился так, точно он был чуть ли не первое лицо в этой сцене. А где-то далеко, внутри его сердца какой-то маленький и злобный Чиченок сидел и нашёптывал: «Ну что, и эта не твоя, и это не твоя». — «Да, жаль, такая девица», — сокрушаясь, подумал он.
Призвали Ульяну Александровну и она, страшно конфузясь, подтвердила отцу, что она просит отцова благословения. Генерал приказал принести образа и благословил их на образе. Тут и Улинька и Андрей Иванович поднялись с колен и подошли к Александру Дмитриевичу для целования. Улинька обняла отца уткнувшись в грудь, зарыдала, да и генерал, до сей поры хранивший суровость на челе, тоже прослезился и, погладив её по спине, сказал, обращаясь к Тентетникову:
— Всё, Андрей Иванович, твоя она теперь, береги её, ведь самое драгоценное, что только у меня есть, отдаю тебе, — и отвернувшись, достал платок с тем, чтобы протереть себе глаза. Тут подошёл к нему Павел Иванович и, подхватив под локоток отвёл в угол кабинета, что-то приговаривая со своею всегдашнею приятною улыбкою, давая молодым оборотиться друг на друга. Генерал на слова Павла Ивановича кивал головою, а затем высморкнул нос и, собравшись с чувствами, обратился к своему будущему зятю. — Ну, Андрей Иванович, насчёт свадьбы, чай, уже между собой посоветовались? — спросил он. — Я же как думаю, что нужно бы не раньше осени.
— А мы хотели к лету, — несколько разочарованно вставила Улинька.
— Нет, к лету неудобно, — сказал генерал. — К лету не успеется, а в лето нельзя, нехорошо, дел много, да и твоему же жениху не до свадьбы будет. Потом ведь и прикупить многое придётся, и перестроиться, небось, тоже надо будет. Родственников известить, собрать их здесь вместе.
— Насчёт родственников не извольте беспокоиться, — ввернул Чичиков, — готов здесь вам помощь оказать любую. Если надо, поеду аж до самого Архангельска.
А сам, конечно же, принял расчёт, что исполнение сего поручения и в его главном занятии придётся весьма кстати: новые места и новые люди — вот то, что нужно было Павлу Ивановичу.
— За Улинькой даю я двести душ крепостных и триста тысяч рублей, из них сто тысяч золотом, остальное ассигнациями, объявил его превосходительство зятю приданое, — к тому прилагается ещё деревня Михайловка и три тысячи десятин земли. Земли все поёмные да луга, так что не бесприданницею берёшь, братец, баловницу мою, — прихлопнувши в ладоши и улыбнувшись, закончил объявление приданого генерал.
— По чести сказать, Александр Дмитриевич, Ульяна Александровна люба мне и безо всякого приданого. Одного только счастья быть рядом с нею и того с меня достаточно, — с поклоном отвечал Тентетников.
А Чичиков как услыхал объявленное генералом приданое, так и заскучал, хотя наружно не показал этого никак. «Надо же, экой вороне и такое счастье, — думал Чичиков, поглядывая на Тентетникова. — Ворона, одно слово — ворона!»
Позднее, когда улеглись поздравления и поцелуи, когда все положенные в таких случаях слёзы были не только выплаканы, но и вытерты вынутыми из карманов и кармашков платками, его превосходительство генерал Бетрищев оговорил с Павлом Ивановичем небольшой список родственников, которых, как он считал, надо было известить о помолвке Ульяны Александровны с Андреем Ивановичем Тентетниковым.
— Вот завтра с утра пораньше и отправлюсь в объезд, — сказал Павел Иванович, принимая из рук Александра Дмитриевича списочек и аккуратно заправляя его в жилетный кармашек. — С утра пораньше и отправлюсь, — повторил он, прихлопнувши ладошкой по карману, точно давая понять, как хорошо и надёжно лежать списочку в его жилетном кармане.
Стало совсем уж поздно, и Чичиков с Тентетниковым собрались уезжать. Молодые простились у стеклянных ведущих на веранду дверей, Ульяна Александровна поцеловала на ночь папа и прошла к себе во второй этаж, а Павел Иванович и Тентетников в сопровождении рослого камердинера, несшего в руках подсвечник с ярко горящими свечами прошли к коляске и, погрузившись в неё, отправились восвояси.
Ульяна Александровна, прошед к себе, села у столика, по которому стояли многие дорогие её сердцу безделушки и среди которых в чёрной узорчатой рамке стоял портрет чудесной красавицы. Улинька глядела в это неживое, написанное дворовым художником лицо, в эти давно уж закрывшиеся глаза и чувствовала, как её собственные глаза заплывают слезами. Она чувствовала несказанную горечь от того, что не было с ней рядом, в такой важный для всей её будущности день, матери, что с раннего детства своего была она обделена материнской любовью. И ей хотелось верить, что сейчас из той неведомой дали, в которую уносятся души усопших, мать её видит и благословляет. Она молилась об этом, молилась о том, чтобы будущая её жизнь с мужем была бы счастливою, молилась о том, чтобы быть Андрею Ивановичу хорошею женою, и слёзы её лились непрестанно, горькие и сладкие в одно время слёзы.
А тем временем герой наш трясясь в коляске рядом с Тентетниковым и позёвывая в кулак, пытался что-то не совсем впопад отвечать на слова Андрея Ивановича, говорившего без умолку.
— Павел Иванович! Павел Иванович! — говорил тот, — вы себе даже представить не можете, как я сегодня счастлив. Ведь ещё только вчера всё казалось конченным, ничто не влекло к себе, а сегодня всё, всё перевернулось. Всё вышло неожиданно, счастливо, по-новому. И я твёрдо знаю, что новая жизнь меня ожидает, и я всё в этой новой жизни сделаю хорошего. Вот увидите, Павел Иванович! Я всего добьюсь. Всё переустрою. И всё это благодаря вам. Ведь вы явились в мою жизнь точно волшебник. Так всё в один день переменить мог только волшебник. И я вам по гроб жизни теперь обязан, Павел Иванович. Позвольте мне считать вас своим братом, вот вам моя в том рука, — приподнятым тоном произнёс Тентетников, сунувши Чичикову руку для пожатия.
— А? Что? — спросил клюющий носом Чичиков, а потом, сообразивши, что к чему, и пробормотавши: — Да, да, конечно, — пожал белеющую в темноте протянутую Андреем Ивановичем руку.
— Что, где мы? — спросил он у Тентетникова, оглядываясь по сторонам, — далеко ещё?
— Нет, ещё четверть часа — и приедем, — говорил Тентетников, а Чичиков, пихнув Селифана, сказал: — Что так тащишься, болван?! — на что Селифан отвечал:
— Так ведь темно, Павел Иванович, не ровен час ещё и коляску завалишь, сами ведь, небось, потом браниться будете.
— Знаете ли что, любезный, — обратился Чичиков к Андрею Ивановичу, — у меня до вас будет одна необычная просьба. В сущности, полная безделица, но для меня нужная, я вам потом, когда приедем, открою обстоятельства мои: и смех, и грех, как говорится, связанные с моим престарелым дядей, так вот, дорогой мой Андрей Иванович, обещайте не отказать, но держать всё это в тайне, так как это щекотливо для меня.
— О чём вы говорите, Павел Иванович, конечно же, выполню любую вашу просьбу, — радушно и не задумываясь отозвался Тентетников.
«Ну, вот и хорошо, — подумал Чичиков, — ещё одиннадцать душ, очень удачный день». И он, привалясь к краю коляски, намеревался было ещё чуть-чуть вздремнуть, но тут новые сказанные Тентетниковым слова отвлекли его от дремоты.
— А знаете ли, Павел Иванович, что когда я увидел вас впервые въезжающим на двор мой, очень испугался. Принял за чиновника, приехавшего по мою душу… — и Андрей Иванович, пребывая в счастливом настроении, выложил Чичикову всю историю касательно тайного общества, подчеркнув, однако, своё осуждение этого общества и скорый из него выход. Бедный Андрей Иванович! Если бы только он взглянул на Чичикова: ведь у того разве что не по-волчьи горели глаза.
На следующее утро Павел Иванович проснулся рано и в хорошем настроении. Намедни, по возвращении домой, рассказал он нервически счастливому Андрею Ивановичу историю о несуществующем дядюшке, якобы помешавшемся на племянниковых трёхстах крепостных душах, одним словом, рассказал то же, что и его превосходительству генералу Бетрищеву, подпустил к этой истории ещё кое-где туману, для пущей важности, и они с Тентетниковым в тот же вечер совершили купчую на бывшие у Андрея Ивановича мёртвые души.