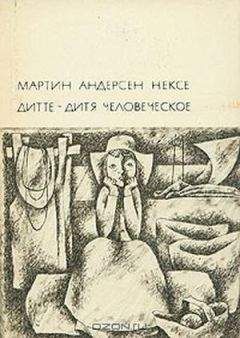Устраивались сборы и в провинции. Там ведь, говорят, хлеб нипочем! И надо сказать правду, крестьяне давали щедро, хотя вообще-то недолюбливали горожан. В город посылались возы хлеба, сала, картошки и распределялись благотворительными комитетами и профессиональными союзами среди нуждающихся. Но и тут, как везде, — у кого локти были посильнее, тот первым продирался вперед; запастись нахальством поэтому было нелишнее. Ни у старухи Расмуссен, ни у Дитте его, однако, не было, и лучше, пожалуй, было посылать Петера. Тот умел прошмыгнуть между ног взрослых, и ему иногда удавалось добыть кое-что. Но для этого нужна была именно удача. И всего, что удавалось собрать или сколотить, хватало так ненадолго! Бедность была каким-то решетом, бездонной бочкой.
Хорошо еще, что доктору платить не приходилось. Он навещал Карла ежедневно, хотя и знал, что не получит за это денег. Он помнил Карла по его выступлениям на собраниях рабочих. Стало быть, кое-какую пользу они принесли. Дитте доктора побаивалась. Он был сухой, как щепка, словно много лет у него крохи во рту не было. Невыгодно, видно, лечить бедняков. В сущности, у него на лице выделялись одни глаза. Зато они были выразительны, так глядели на человека сквозь очки, что тот не знал, куда деваться. И когда доктор говорил, Дитте никогда не была уверена в том, как надо его понимать — буквально или же наоборот:
Но старуха Расмуссен никого не боялась и смело обращалась к нему: не пропишет ли доктор ей чего-нибудь против болезней?.. Самое лучшее — чего-нибудь укрепительного!
— Прописать-то, конечно, можно, — говорил доктор, слегка усмехаясь, — но от этого толку не будет. Не больше, чем если вы проглотите рецепт вместо лекарства, как это делают в католических странах.
— Нет, я, слава богу, не католичка, — с живостью отвечала старуха. — И голова у меня в порядке. Ломит мне поясницу да ноги болят… ну и лопатки тоже. Не бывает разве каких-нибудь остатков в пузырьках, которые все равно выбрасывают?
— Вы думаете, что-нибудь выбрасывают в такие времена?
— Да ведь если случится помереть кому… А мне почти все равно, что принимать — лишь бы подкрепигь себя немножко.
Доктор рассмеялся, но на другой день принес ей все-таки и пилюли и микстуру.
— Пусть принимает, — сказал он Дитте, — старым людям нужно подбодрить себя чем-нибудь. А послезавтра мы попробуем поднять Карла с постели. Но ему необходимо носить на теле фуфайку, теплую шерстяную фуфайку, иначе он опять может заболеть. Сумеете вы достать ему фуфайку? То есть две, — для смены; он ни в коем случае не должен снимать с себя фуфайку!
Ну конечно, она достанет. Дитте сказала это, даже не сморгнув, но, в сущности, сама не знала, как это сделать. Перина ушла на лекарства, и больше заложить было нечего. В долг она брала направо и налево, задолжала кругом, болезнь истощила решительно все ресурсы. И каких неимоверных трудов стоило Дитте давать Карлу и то немногое, что он мог проглотить!
Сегодня она поджарила ему кусочек печенки. Остальных она накормила картошкой с луковым соусом. Когда она принесла Карлу еду, он читал.
— Ах, какое вкусное блюдо ты мне принесла! — сказал он растроганно. Но сам больше ковырял вилкой, чем ел. Исхудал он за эти две-три недели страшно, просто жалость брала глядеть.
— Да ты ешь, — сказала Дитте, — ведь ты почти ничего не берешь.
— Погоди, дай мне только выйти на воздух. Это лежанье в постели ужасно действует на пас, людей, привыкших работать на вольном воздухе. Завтра я встану, слышишь?
— Нет, послезавтра, — возразила Дитте, слабо улыбаясь. — Ты меня надуть хочешь, совсем как ребенок.
— Бели доктор говорит послезавтра, стало быть, можно встать и завтра, будь спокойна. Они всегда чересчур осторожны.
— Но, ведь нужно сначала добыть тебе фуфайку, без этого тебе нельзя вставать.
— Ну так долго же придется мне лежать. Откуда нам взять ее? И на что она мне? Я отроду не носил фуфайки на теле.
Дитте не стала больше разговаривать об этом. Фуфайка ему необходима, и она ее добудет во что бы то ни стало.
— А что такое ты читаешь? — с удивлением спросила она. — Как будто Библию?
— Да, обличения пророка Исаии. Он обличил современное ему общество. Раньше я никогда не понимал этого как следует, но и он проповедовал бога — защитника вдов и сирот. Вот послушай: «Горе издающим законы несправедливые и попирающим закон, дабы устранить от правосудия бедных и похитить право у малосильных, ограбить вдов и сирот…» Прямо точно наше общество бичует.
— Плохо он, видно, бичевал, — сказала Дитте, — раз и до сих пор нам приходится бороться все с той же несправедливостью.
— Да, он ведь уповал на агнца. Но не агнцу прогнать волков. По-моему, Христос был слишком мягок сердцем, вот мы и расплачиваемся за это. Нашей земле требуется, как гласит поговорка, «крепкий щелок для паршивой головы». О, как хотелось бы мне дожить до того дня, когда «наступит правосудие», — заключил он с фанатическим блеском в глазах.
— Укройся-ка хорошенько да брось свои книжки, — сказала Дитте, отбирая у него Библию. — А то опять у тебя жар начнется.
Когда они поели, старуха Расмуссен собралась пойти в попечительство — не дадут ли кусочек шпику или грудинки; сегодня там должны были раздавать продукты.
— Карлу необходимо дать чего-нибудь посытнее — тарелку горохового супа с салом.
— Ох, возьмите Анну с собой, — попросила Дитте, — тогда Петер понянчится с братишкой, а мне надо как-нибудь раздобыть Карлу фуфайку.
— Ты бы попробовала пойти к своим на Истедгаде, — посоветовала старуха. — Когда они узнают, что это для Карла, то…
Дитте и сама об этом подумывала.
— Но ступайте скорей, бабушка, иначе опоздаете! — И, выпроводив старуху с девочкой, заторопилась сама. — Ты ведь понянчишь братишку, хорошенько посмотришь за ним? — сказала она Петеру, взяв его за подбородок. — Только не надо ходить к дяде Карлу, он еще слишком слаб.
Петер потерся мордочкой о ее ладонь, словно ласковый жеребенок.
— Мы будем умниками, — ответил он серьезно. — Иди спокойно.
На Готерсгаде Дитте встретила человека, продававшего «Листок безработных», и купила для Карла. Потом сообразила, что лучше порадовать его газеткой сейчас же, и поспешила обратно. Запыхавшись, вошла она в каморку, — Петер оказался там. Мальчик покраснел.
— Как? Ты здесь! — воскликнула мать.
— Я хотел только… — начал он, но замолчал и пошел за нею в большую комнату.
Малыш сидел и играл на своей подушке, положенной на пол. Печка была загорожена треугольником из стульев, чтобы он не мог подобраться к ней, все было устроено очень умно.
— Но я бы все-таки предпочла, чтобы ты не оставлял его, — сказала Дитте, — и ты ведь обещал мне!
— Да меня ноги сами понесли, я никак не мог сладить с ними, — оправдывался Петер, совсем сконфуженный.
— Пусть они в другой раз не несут тебя, — сказала Дитте, целуя его.
У Ларса Петера дела оказались плохи, в доме денег не было.
— Яльмар все забрал у отца, — сказала Сине. — В долг взял, чтобы съездить к себе в Нэствед и заставить своих стариков раскошелиться. Они ведь зажиточные. А мы сейчас не богаче тебя.
Ну, в их-то бедность Дитте не очень верила: одного товару сколько в лавке и в кладовых. Но, разумеется, раз его нельзя превратить в деньги, то все равно толку мало.
— А ты угодила в газеты! — сказала Сипе несколько колко. — Мы даже погордились родством с тобой.
— Ну, некоторые газеты отзывались даже очень хорошо о ней, — сказал Ларc Петер. — И не всякий ведь удостоится чести попасть в газету — с портретом и все такое. Я спрятал газету, — презабавно они тебя изобразили, Ни за что не признаешь. — И он взялся было за боковой карман.
Но Дитте не обнаружила никакого интереса, — довольно было с нее этих газет. Да и гордиться тут, по ее мнению, вообще нечем было.
— Многие ведь приняли твою сторону, — прибавил Ларc Петер.
Напрасно она, стало быть, трудилась заходить к своим. А она-то уж заранее радовалась, представляя себе, как вернется домой с толстой теплой фуфайкой и наденет ее на Карла. Он, бедняга, так исхудал за время болезни, где же его тощему телу сохранять тепло? Сам-то он все шутит над этим, но с мокротой в легких шутки плохи.
Когда она вернулась домой, маленький Георг смирно сидел на полу, играя зубной щеткой. Петер дал ее ребенку, чтобы занять его, а сам сидел рядом — со связанными ногами! Да, он связал их веревкой, да так запутал, что почти не развязать было.
Вернулись старуха Расмуссен с Анной, порядком усталые, но все-таки очень довольные. Им дали кусок копченой грудинки с прослойками сала и четыре фунта картофеля.
— Смотри, какой чудесный кусочек! — сказала старуха. — Теперь бы только гороху еще, чтобы сварить Карлу суп. Ему необходимо что-нибудь посытнее, пожирнее.