Усмехаясь, Давиде продолжал повторять эти вопросы, как лишенную смысла скороговорку. Но он говорил все это лишь для самого себя: его голос стал таким тихим, что даже сидящие рядом не могли разобрать слов. Вид у него был сердитый, как будто он кого-то обвинял или кому-то угрожал. Он уставился на свой стакан, наподобие Клементе, но не пил, как если бы вино вызывало у него отвращение. Потом он пробормотал: «Надо внести одно уточнение по поводу немца, убитого мной там, в Кастелли. Я, приканчивая его, действительно превратился в эсэсовца. Но он, умирающий, не был больше ни эсэсовцем, ни вообще солдатом. Его светлые глаза, глупые, как у новорожденного, спрашивали: где я? что со мной? почему? Я превратился тогда в эсэсовца, а он — в ребенка».
«В карапуза!» — насмешливо прошептал на ухо Давиде его Супер-Эго. Давиде рассмеялся и с готовностью поправился: «Да, именно: в карапуза».
Это было последнее вмешательство Супер-Эго. Давиде остался один на один со своей ужасной слабостью.
На лице его было теперь по-детски капризное выражение, как обычно, когда он чувствовал себя изнуренным. Однако с невероятным упрямством он бросился на штурм последнего препятствия, хотя понимал теперь, что ожидающий его приз был не прекрасным шелковым знаменем, а всего лишь потрепанным и рваным бумажным флажком. Задыхаясь и лихорадочно жестикулируя руками, Давиде заявил: «Когда человек убивает другого, то этот другой — всегда ребенок… Теперь я вижу его, немца, брошенного в ту же кучу, что мои родители и сестра… Все вместе: немцы и итальянцы, язычники и евреи, буржуа и пролетарии, все одинаковы — голые христосы, невинные, как новорожденные». Тяжело и прерывисто дыша, Давиде продолжал: «Я не могу больше делить людей на белых и черных, фашистов и коммунистов, богатых и бедных, немцев и американцев. Этот мерзкий, грязный фарс слишком затянулся… Хватит!.. Я больше не могу!»
Теперь даже Клементе Черная Рука больше не обращал внимания на пьяные речи Давиде Сегре, который долго еще заплетающимся языком бормотал что-то бессвязное: он говорил, что до Галилея люди думали, что вращается Солнце, потом — что Земля, а затем выяснилось, что их вращение взаимно, поэтому можно сказать, что Солнце и Земля одновременно вращаются или что они стоят на месте: не имеет значения. Потом Давиде пробормотал, что он — проклятое райское дерево, что это он оскорбил Христа и убил его. Это он виноват в смерти своих родных, потому что оставался нетерпимым по отношению к ним, а они были, в сущности, обманутыми неопытными детьми. И девушка его плохо кончила, потому что он, Давиде, увлекшись ложными идеалами, забросил свою единственную любовь. И его самый близкий друг погиб из-за него, Давиде, потому что на самом деле он был ребенком и нуждался в отце (сам того не зная, он был сиротой). Он неосознанно искал в Давиде отца… И старая проститутка умерла по его вине, потому что она тоже была ребенком с чистым сердцем, рожденным для чистой любви… В общем, он виноват в смерти всех умерших… На самом деле, буржуа — это он, и проститутка — он, и подонок — он… Он повинен во всех мерзостях жизни…
В это время в остерии не один Давиде говорил невпопад: пустых бутылок на столах было уже немало. Выходной день заканчивался. Вокруг слышались бессмысленные разговоры, непристойные истории, старики кашляли и плевали на пол. По радио передавали сначала какое-то папское послание из Ватикана, а потом обзор спортивных новостей. У приемника опять собрались болельщики. Хозяин, уже знавший результаты матчей, зевал, давал указания жене, которая в зале обслуживала клиентов. В этой обстановке Давиде казался обыкновенным пьяным, но на самом деле он чувствовал себя даже слишком трезвым. Чересчур ясные мысли пульсировали у него в мозгу, как осколки. Вдруг он улыбнулся и громко сказал: «Где-то я прочитал такую историю: один человек, посещая концентрационный лагерь, заметил, как что-то шевелится в куче мертвецов, и увидел девочку. „Почему ты живешь тут с мертвыми?“ — „Потому что с живыми я больше не могу оставаться“. Этот факт действительно имел место», — заверил Давиде вдруг неожиданно важным тоном и, уронив голову на руки, разрыдался. По правде сказать, было непонятно — плакал он или смеялся. «Ну вот, ты здорово наклюкался», — сказал игрок с медальоном, по-отечески похлопывая его по плечу. Тут Узеппе, робко и испуганно потягивая Давиде за рубашку, сказал: «Пойдем отсюда, Давиде! Давай, пошли!»
С того момента, когда Давиде снова сел на стул, продолжая лихорадочно говорить, Узеппе опустился на пол и примостился рядом с Красавицей. Он не осмеливался прервать речь друга, боясь рассердить его, но в нем росло ощущение, что Давиде грозит какая-то опасность. Даже слово «Бог», часто произносимое оратором, вызывало у Узеппе страх: ему казалось, что Бог вдруг появится в остерии и накинется на Давиде. Из всех присутствующих один Узеппе не считал Давиде пьяным, но ему казалось, что тот болен, может быть, потому, что ничего не ел. Он надеялся убедить Давиде зайти к ним на улицу Бодони поужинать… А пока, пытаясь заглушить страх, он тихонько играл с Красавицей. Время от времени собака щекотала малыша, облизывая шершавым языком его уши и шею. Узеппе бесшумно смеялся, чтобы никому не мешать…
«Пойдем, Давиде! Пойдем отсюда!»
Узеппе был бледен и немного дрожал от страха, но одновременно в нем проглядывала смешная отвага, как будто он собирался защитить Давиде от толпы врагов. «Малыш прав, — сказал игрок с медальоном, — иди домой, там придешь в себя». Давиде встал. Он не плакал и не смеялся, лицо его было неподвижным, взгляд застывшим. Пошатываясь, он направился не к выходу, а в сторону туалета. Узеппе следил за ним глазами, боясь, что он упадет, и не заметил, как в остерию заглянула Аннита Маррокко. Она тоже не заметила маленького Узеппе среди взрослых посетителей. Увидев, что внутри много народу, она издали улыбнулась хозяйке своей грустной улыбкой, склонив голову к плечу, как будто под тяжестью волос, и вышла. «Эта, — сказал Клементе с ухмылкой, — все еще ждет мужа из России». Он продолжал ухмыляться, как будто рассказал какую-то страшную историю о призраках, от которой не спят по ночам. Но услышал его только бывший уличный газетчик и пробормотал в ответ что-то нечленораздельное.
Из туалета Давиде вернулся другим: в нем чувствовалось какое-то новое возбуждение. Один Узеппе заметил у него на рубашке капельку крови и подумал, что снова начала кровоточить ранка на руке друга. Неизвестно, какое лекарство Давиде ввел себе на этот раз, знаю лишь, что теперь он использовал не только ранее известные ему средства, но и импровизировал, смешивая иногда наркотики противоположного действия. В последние недели он прибегал к ним все чаще. Наступающая жара подстегивала его жизненные силы и внутреннюю энергию, которая у Давиде находила выход только через душевную боль. Больше всего его мучили состояния чрезвычайной ясности ума, сопровождаемые то сном, то бессонницей. Чтобы не быть застигнутым ими врасплох, он, выходя из дома, всегда брал с собой несколько ампул… В то время, особенно в кварталах бедняков, на наркоманов не обращали внимания.
Давиде шел через шумную остерию веселым пружинистым шагом, как экзотическое животное в цирке, подгоняемое хлыстом дрессировщика. Его выдавала лишь неестественная бледность да странный блеск в глазах, напомнивший вдруг о состоянии (казалось, совершенно забытом), в котором он находился в момент его ареста немцами, бегства из плена и появления в Пьетралате. Проходя к столу, по пути он устроил небольшой спектакль, но даже и в этот момент смешная неловкость и застенчивость, свойственные его натуре, не покинули его. Кроме того, неестественное возбуждение не могло скрыть следов печальных злоупотреблений и недоедания… Узеппе обрадовался, увидев друга ожившим и веселым…
Остановившись у радиоприемника, Давиде начал пританцовывать, хотя передавали не музыку, а какую-то серьезную программу, может быть, даже религиозную. Вдруг он запел гимн анархистов:
Мы с революцией пойдем,
Наш черный флаг мы развернем…
При этом Давиде издал неприличный звук губами, настолько не вяжущийся с его обликом, что Узеппе стало не по себе (до этого малыш, единственный из присутствующих, весело смеялся выходкам друга). Подойдя к столу, Давиде похлопал по плечу некоторых из сидящих, называя их товарищами, чем почтовый служащий, не любивший коммунистов, остался очень недоволен. Игра в карты закончилась, игроки собирались расходиться по домам, старика с медальоном уже не было, а бродячий торговец надевал через плечо ремни своего лотка. Давиде взбрело в голову удержать их: небрежным жестом миллионера он заплатил за все сладости, лежавшие на лотке, и начал раздавать их присутствующим. Потом он заказал вина для всех, наполнил свой стакан и, вытянувшись перед Клементе и отдавая ему честь, выкрикнул: «Выпьем за этого сволочного бога», — и еще какие-то богохульные слова. Он тоже отпил глоток, но тут же с отвращением выплюнул выпитое. Давиде передвигался по кругу неровными шагами, натыкаясь на стулья, как матрос по палубе во время качки, рассказывая о себе то вслух, то на ухо, нарочито грубо, всякие непристойности: например, что он — постоянный клиент борделей (действительно, в эти первые недели июня он пару раз заходил туда, унося с собой чувство омерзения и вины, потому что считал бордели мерзостью наподобие концлагерей). Или же он с усмешкой рассказывал о том, как пытался стать рабочим и как по вечерам его тошнило от такой жизни… Он без конца повторял, что главный убийца, эксплуататор и фашист — это он, Давиде. Он говорил о трупах и о конкурсах красоты, о Нюрнберге, о Папе Римском, о Бетти Грейбл[36] и о Портелла делла Джинестра,[37] о войне и о «холодной войне», о банкетах, бомбах и т. п., перемешав трагическое и комическое, и все это сопровождал развязным смехом, как будто речь шла о чем-то забавном… Узеппе слушал друга, время от времени заливисто смеясь: он ничего не понимал в его речах, но поведение Давиде веселило его, как выходки клоуна. Красавица не отставала от Узеппе: она прыгала, носилась и отчаянно махала хвостом. Наконец Давиде затянул какую-то вульгарную песенку:
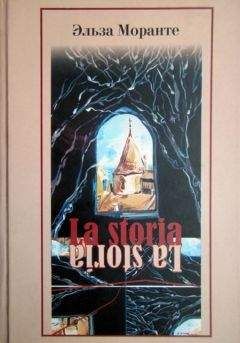


![Эльза Моранте - Андалузская шаль и другие рассказы [сборник рассказов]](https://cdn.my-library.info/books/113049/113049.jpg)

