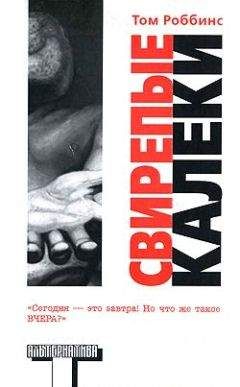Возможно, дело в листьях коки. Говорят, будто на одной лишь порции такой жвачки перуанский индеец пыхтит с рассвета до заката – и в процессе вовсе теряет аппетит к ленчу. Вот еще одна причина избегать кокаинового дерева. За последние несколько дней один ленч он уже пропустил – из-за ХТС. Кока столь же губительна для обеда, как ночные телепрограммы – для секса. Свиттерс уже собирался сообщить об этом – просто так, в пространство! – как вдруг приметил гроздь мини-бананов, торчащую из-под рулона потрепанной москитной сетки, что лежала рядом с запасом продовольствия. Эврика!
Отпихнув сетку, Свиттерс потянулся к бананам – и тут же, вскрикнув, отпрыгнул назад: пальцы его оказались в дюйме от гнуснейшего паука – ничего уродливее Свиттерс в жизни своей не видел. Вот на это его стоические товарищи по плаванию отреагировали – да как! Их лица сморщились, босые ноги затопали, а с губ слетели странные свистящие звуки – должно быть, аналог смеха, распространенный в бассейне реки Амазонки, – и представление это длилось, пока Свиттерс медленно отступал от банановой грозди и ее обитателя, белесой твари, что размерами и волосатостью весьма смахивала на человеческую подмышку с ножками.
Хорошо, не тарантул. Тарантулов Свиттерс знал неплохо. Нет, этот живой символ эволюционной извращенности был не просто волосат, но еще и испещрен фиолетовыми пятнами – подмышка, пораженная сыпью, – а его белые, лишенные зрачков глазищи вращались над головогрудью, точно нафталиновые шарики на гранильном станке. В придачу тварь приподнялась на задние ноги с видом весьма недружелюбным.
Свиттерс, отступая шаг за шагом, наконец вновь уселся на свой диван из картонок; индейцы по-прежнему веселились. «А не открыть ли мне в Пукальпе собственный мюзик-холл? – размышлял про себя Свиттерс. – Назову его «Арахнофобия». Вместо этого он открыл чемодан. Порылся среди шорт, носков и платков. И выудил пистолет.
– Ничего личного, – заверил он, вставая лицом к лицу к гроздью. – Я чту все живое и отлично понимаю, что в твоих глазах сам кажусь страхолюдным чудовищем. Но ты посягнул на мои чертовы бананы, приятель, так что – закон джунглей!
С этими словами Свиттерс с оглушительным треском расстрелял с дюжину патронов, так что ошметки паука и бананов разлетелись по всей лодке.
– Как насчет фруктового салата? – учтиво осведомился он.
В самом деле, когда дым рассеялся, стало видно, что от грозди мало что осталось. Зеленые лохмотья, желтые обрывки, волосатые конфетти. Порывшись в останках органики, Свиттерс, однако, нашел четыре с половиной уцелевших фрукта. Половинку банана он преподнес попугаю. Оставшиеся невозмутимо очистил и скушал один за другим, улыбаясь удовлетворенно и кротко.
– А теперь, – возвестил он застывшим как истуканы индейцам, что разом сделались весьма почтительны (даже оцелот, выбравшись наконец из укрытия, взирал на него с благоговением), – как насчет толики послеобеденной беседы? По моему мнению – а я высказал его перед членами клуба К.О.З.Н.И. в Бангкоке не далее как 18 февраля 1993 года и вновь предложу его на ваше рассмотрение, – синтаксические единства в «Поминках по Финнегану» – на самом деле не предложения в прямом смысле этого слова, но скорее промежуточные состояния расходящейся цепи панлингвистического взаимодействия, соответствующие… Свиттерс прервался на полуслове и продолжать не стал. На то было две причины:
1) Невзирая на острую потребность в интеллектуальной стимуляции, даже если обеспечивать таковую приходилось самостоятельно (а от Маэстры он унаследовал тенденцию периодически приходить в восторг от сопения собственных вербальных волынок), Свиттерс уже заметил, что его монолог не просто сродни мастурбации, но еще и снисходителен.
2) Все, что он имел сказать – какой облом! – забыл на фиг, идиот.
И тут полил дождь.
Шеренга необъятных черных туч давно запрудила небо вдоль горизонта, точно лимузины на похоронах мафиози. Теперь нежданно-негаданно они отъехали от зеленой обочины и собрались над головой, где, подобно превысившим весовую норму, но не утратившим спортивной формы «Гарлемским кругосветникам»,[39] сталкивались и сплетались в «захвате», ловко перебрасываясь промеж себя молниями, в то время как ветер насвистывал «Милую Джорджию Браун».[40]
Затем тучи слились в единый, заполнивший все небо вещмешок; вот он раскрылся – и все его содержимое посыпалось вниз: триллионы дождевых капель, здоровенных, как каролинские бобы, и теплых, словно кровь. Невзирая на защитный навес, Свиттерс уже думал было, что захлебнется.
Спустя минут двадцать или меньше ливень прекратился. На то, чтобы вычерпать из лодки воду – с помощью Интиных котелков, – мальчишкам потребовалось в два раза больше времени.
Если во время ливня солнце и воспользовалось возможностью совершить что-либо антисолнечное, наглядных свидетельств тому не осталось. Находилось оно практически в той же точке, что и перед потопом, и сразу взялось за старое – принялось губить путешественников ядерным смрадным дыханием. Впрочем, солнце вольно излучать радиацию, пока не по краснеет от натуги, вольно загружать свою топку, поката не разогреется до двадцати миллионов градусов по Фаренгейту, и все же оно и близко не подойдет к тому, чтобы понизить влажность на реке Амазонке. Свиттерсу не суждено было толком высохнуть вплоть до его возвращения в Лиму, да и там он вспотеет изрядно: управление инвалидной коляской требует немалых мышечных усилий.
В ту ночь, после нежданно вкусного ужина, состоявшего из кукурузы и бобов, Свиттерс заснул на борту «Девы». Лодку вытащили из воды на песчаную отмель. Песок как таковой послужил бы постелью куда более мягкой – но что, если с визитом заявится рептилия-другая? Чего доброго, какой-нибудь близорукий либо изнывающий от одиночества самец-крокодил попытается переспать с его чемоданом!
Звезды, яркие и крупные, точно медные дверные ручки, высыпали на небо в таком количестве, что прямо-таки расталкивали друг друга, ища местечка посверкать спокойно. Поскольку популяция москитов оказалась не менее многочисленной, Свиттерс на ночь завернулся в сетку, точно буррито с начинкой из фараона, проверяемая на прочность мумия, которой и звезд-то не видно из-за пелен. Выключение зрения компенсировалось избыточностью слуха. От стрекочущих, точно швейные машинки, цикад до рева всяких разных амфибий, что сделал бы честь любой пивной; от жестяного пощелкивания, жужжания и гудения бесчисленных насекомых до спортивного всхрапывания диких свиней; от нежных, мелодичных трелей ночных птиц (Моцарт с рассеянным вниманием) до хрюканья, уханья и подвывания бог знает кого. Разгульное цунами биологического шума и гама выплеснулось из джунглей и за реку, что добавляла в смесь еще и собственный будуарный шепот.
Дополнительный акустический эффект обеспечили Инти и его команда: после ужина они, прихватив бутыль писко, потрепанные одеяла и заляпанную бананом москитную сетку, скрылись в кустах. Всю ночь мальчишки то и дело издавали пронзительные, первобытные крики, словно Инти избивал их. Или… или что-нибудь еще. Что-нибудь типично южноамериканское.
(В отличие, скажем, от штата Юта. Совсем недавно некий джентльмен-мормон из Юты был до глубины души потрясен, обнаружив, что его жена – на самом деле мужчина. Женаты они были три года и пять месяцев. Такой оплошности в Южной Америке никогда бы не допустили: господствующая там католическая этика прыткость скорее поощряла, нежели подавляла.)
Когда на рассвете Инти легонько потряс его за плечо, Свиттерс с изумлением обнаружил, что, оказывается, и впрямь спал, – и еще более поразился тому, что отдохнул вроде бы вполне сносно. Инти помог ему размотать сетку, и Свиттерс явился из пелен, словно бабочка из кокона.
– Свободен, наконец свободен! – возликовал он, выпрыгнул на песок и сплясал джигу. Индейцы взирали на него со странной смесью приязни и страха.
Пока путешественники купались и завтракали, тишину вокруг дробили болтовня и визг мартышек, а когда посветлело, Свиттерс разглядел попугаев – и в кронах деревьев, и в воздухе, и еще попугаев, и еще. Чутко насторожившись – ни дать ни взять сгусток нервов, – Моряк скакал вверх-вниз на жердочке.
– Хм-м-м… А знаешь, приятель, я ведь мог бы выпустить тебя прямо здесь, нет? Мы в семидесяти милях от Пукальпы, джунгли тут начинаются уже серьезные, твоих двоюродных братцев и сестриц здесь пруд пруди. Я мог бы открыть тебе дверцу, увековечить твой уход для потомков и вернуть свою бедную, затраханную Южной Америкой задницу туда, где прохладно, свежо и чисто. Ты будешь счастлив, Маэстра скорее всего тоже, и, Господь свидетель, счастлив буду я. Может, правда так и поступим? Что скажешь?
Моряк не ответил ни слова – и Свиттерс поборол искушение. Почему? Никакой веской причины не было, кроме лишь того факта, что Хуан-Карлос де Фаусто предложил ему безрассудный план, а к безрассудным планам Свиттерс питал неистребимую слабость.