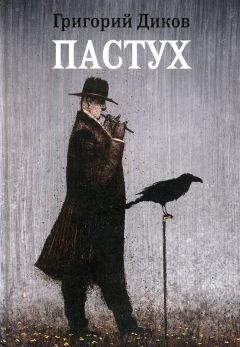Во-первых, была задета честь его дочери, Ларисы Дмитриевны: за несколько дней до большого пожара он торжественно объявил о ее готовящейся свадьбе с лжеподрядчиком. Во-вторых, порядочно подмочена оказалась и репутация самого Дмитрия Ивановича среди коллег. Его обвиняли в близорукости, многие друзья отвернулись от него, начальство проявляло холодность, а подчиненные за спиной перешептывались и делали прозрачные намеки. Жить в городе стало для полицмейстера невыносимо.
Впрочем, эти события в конечном итоге имели для Дмитрия Ивановича развитие самое благоприятное. Используя связи в Министерстве внутренних дел, Дмитрий Иванович добился спустя полгода перевода на такую же должность в Ардатов. На новом месте Дмитрий Иванович проявил необычайное рвение и через несколько лет перебрался с повышением в Нижний Новгород, а оттуда, еще через три года — прямиком в Санкт-Петербург. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло: расстроившийся брак дочери в конце концов обернулся для полицмейстера выгодой. Без этого он, может быть, и сидел бы до конца своих дней в Городце, ходил бы пешком по его пыльным улицам да следил за вольнодумным учителем географии, все вольнодумство которого заканчивалось, как только тот трезвел.
Судьба Дмитрия Ивановича складывалась удачно; он обосновался в столице, оброс знакомствами и связями и даже выдал замуж дочь. Его восхождение по служебной лестнице продолжалось; со временем за Дмитрием Ивановичем закрепилась надежная репутация одного из самых успешных следователей жандармского управления. Впрочем, несмотря на все продвижения по службе, о несостоявшемся зяте он не забывал и пристально следил за розыскным делом на пропавшего мещанина Ефима Григорьевича Селивестрова.
Первоначально в этом деле значилось очень мало сведений — по сути, и дела-то никакого не было: только пара листков с описанием примет и обстоятельств, при которых Селивестрова в последний раз видели живым. Бывший полицмейстер Городца, однако, не считал дело законченным. По его настоятельной просьбе начальство распорядилось изъять дело Селивестрова из ведения нижегородской жандармерии и передать его для расследования в столичный департамент полиции. Оно попало в отдел, занимавшийся розыском особо опасных преступников, — тот самый, который Дмитрий Иванович впоследствии и возглавил.
Тем временем человек, ради поимки которого Дмитрий Иванович предпринял столько усилий, жил совершенно спокойно.
Нил даже представить себе не мог, что бывший полицмейстер по крупицам собирает о нем сведения и всем сыскным отделениям отдано строгое распоряжение: установить прошлое лжеподрядчика и разыскать его самого.
Всю зиму Нил прожил в избушке, отрезанный от остального мира снегами и бездорожьем. Нил много размышлял над своей причудливой судьбой: быстрым вознесением, таким же стремительным падением и чудесным спасением из вод. Наконец решил, что в тот осенний день, когда расстрига вытянул его из волжской воды, родился он заново. Прошлое больше не тяготило Нила; он стал забывать, что когда-то его называли Ефимом, что был он богат и имел под началом много людей. Сердце его, прежде ожесточенное заботой о деньгах и положении, успокоилось и размягчилось.
Нил привык и к своему новому обожженному лицу и больше не прятался, когда в избушку к расстриге заходили за разными снадобьями и советами окрестные мужики да бабы. Главной его заботой теперь была учеба: будто снова оказался он в том счастливом времени, когда подмастерьем ходил со столярной артелью по волжским берегам. Теперь его учителем был старый расстрига. Нил впитывал каждое его слово, повторял каждое движение. В те редкие часы, когда расстрига уходил в лес или в соседнюю деревню, Нил доставал из тайника книгу на телячьей коже и вглядывался в странные буквы, стараясь угадать их смысл. С книгой на коленях он сидел у маленького окна, изредка отнимая глаза от рукописных строк и бездумно глядя на пушистый синий снег, блестевший под низким зимним солнцем. Снег казался Нилу огромной пустой страницей, на которой ему предстояло начертать свою судьбу.
И с каждым новым зимним днем сила, спавшая в Ниле, крепла и пускала корни.
Как-то раз в феврале, когда уже стемнело и за окном валил густой снег, во двор въехали сани, запряженные мохнатой лошадкой. Санями правил молодой мужик, а в них, прикрытая овчиной, лежала и постанывала баба.
Ферапонт в расстегнутом зипуне выбежал на двор и помог завести бабу в избу. Она тотчас повалилась на топчан, что стоял в красном углу и служил для осмотра болящих. По словам возницы, ее мужа, у бабы уже много дней были рези в животе. Капли, которые прописал им фельдшер, не помогли, вот мужик и решил свезти жену к «колдуну», как иногда называли Ферапонта в окрестных деревнях.
Ферапонт приказал бабе раздеваться. Когда она осталась в одной рубахе, он остановил ее и принялся через рубаху щупать ей живот и мять грудь. Муж сжал кулаки, но не вмешивался. В деревне знали, что Ферапонт, хоть и расстрига, образ жизни ведет истинно монашеский и баб щупает только для лечения, а не для развлечения.
Закончив щупать и отряхнув руки, Ферапонт сел на лавку рядом с мужем и сказал озабоченно:
— Пусть баба на ночь остается. Железа у ей опухла под ребрами. Я нац ней всю ночь читать буду — авось рассосется. А то до сева может не дожить, поздно пришли.
Мужик начал было спорить, а жена ему говорит:
— Ступай домой, Ванюша, оставь меня здесь. Мочи моей нет терпеть, пусть колдун попробует. А я себя блюсти буду, не беспокойся. Завтра заезжай за мной пораньше.
На том и порешили. Уехал муж, а Ферапонт мягкое на топчане постелил, бабу снова уложил и стал нац ней колдовать. А перед тем Нилу сказал из-за занавески выйти. Увидела его баба и сперва испугалась обожженного лица, да Ферапонт ее успокоил:
— Не бойся, это ученик мой, Нил Петрович. Он тебе худого не сделает.
Зажег расстрига шесть сальных плошек и вокруг топчана поставил, а потом стал Нилу указания давать: какую траву с чердака принести, как ее запарить, откинуть, как отвар отцедить и прочее.
Пока Нил снадобья готовил, Ферапонт заговоры читал над болящей. Начал он с простых заговоров, которые Нил уже от него слышал. Сам читает вслух и бабе велит за ним все слово в слово повторять:
— На каменной горе посреди мира на большом дубе-дереве сидит птица Сирин, поет ангельским голосом. Я ту птицу с дерева кличу, подманиваю — лети сюда, голодная, лети, золотоперая, клюй злое мясо, пей черную кровь! Ты голодна — я больна, ты насытишься — я выздоровлю! Клюй раз, клюй два, клюй три! Как месяц на убыль идет, идет на убыль болезнь да опухоль! Как грязна вода под камень утекает, а чистая из родника сочится, так злая кровь из тебя выходит и на новую заменяется! Наестся птица Сирин, напьется, залетит на верхушку дуба-дерева и запоет Богородице великую хвалу! Услышит Богородица эту песню и прогонит болезнь насовсем! Аминь!
Таких много еще заговоров прочли. После этого, отдохнув, Ферапонт в отвар каких-то порошков всыпал и дал бабе выпить, да и сам тоже отхлебнул из ковша. А затем взял простыни и запеленал ее, как ребенка, а концы вокруг топчана обмотал, чтобы не дергалась. Залез в подпол, где у него тайная книга была спрятана, достал ее, открыл и стал читать. Почитал-почитал, нашел, что ему нужно, отложил книгу в сторону и выпил еще отвара.
Сидит, покачивается, смотрит на бабу. И ворон Захарка тут же рядом, на жердочке сидит и тоже вроде покачивается, совсем как хозяин.
Так около четверти часа минуло. Вскочил тут расстрига, книгу на руки взял и стал кругами ходить вокруг топчана и петь какую-то песню из той книги — даже не петь, а выть. Слов Нил разобрать не мог, будто язык не русский. Поет Ферапонт, ногами притоптывает, руками прихлопывает. А бабу тем временем дрожь проняла и пот пробил. Лежит она, охает под простынями. Ферапонт тоже весь в испарине, взмок, головой мотает, глаза закатились. Вдруг петь перестал и повалился на лавку. Полежал-полежал, привстал снова и обвел избу глазами. Видит Нила — тот сидит испуганный, ни жив, ни мертв, в угол забился. Ферапонт пот со лба утер и ковш Нилу протягивает:
— Испей!
Побоялся ослушаться Нил старика, до того у него был страшный вид. Взял и выпил одним духом все, что в ковше оставалось.
Сперва ничего не почувствовал, горечь только. А немного погодя стало Нилу страшно, да так, что из избы захотелось бегом бежать. А бежать не получается — ноги его сделались ватные, большие, неуклюжие, не слушаются. Сидит Нил и тянется руками к двери, а дверь будто сама от него вдаль отъезжает, маленькой становится. Встал тогда Нил и к двери побежал. Бежит, бежит, кажется ему, что уже три дня бежит, что сто верст уже отмахал, как вдруг откуда-то голос раздается громогласный: «Сядь!» Повернул Нил голову, смотрит — пред ним Ферапонт. Да только не тот Ферапонт, которого Нил привык видеть, а новый, чудный какой-то. Тот был маленький, старый и сморщенный, а этот огромного роста, молодой, красивый, с вороными кудрями и в иссиня-черной атласной рясе!