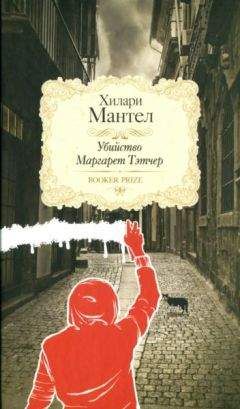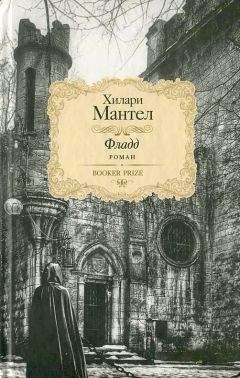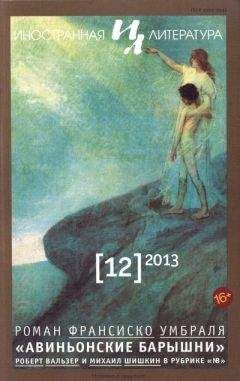Мой отец фыркнул:
— Берни, ты ходишь в суд с пинцетом? Кусачки для ногтей — это я понимаю, но…
— Смейся сколько влезет, — ответил Бернард, — но я видел, сколько хлопот способен доставить осколок стекла. А в руках человека, обучавшегося в отделении скорой помощи больницы Святого Иоанна, стерилизованный…
Тут Николетт триумфально взвизгнула. Ей удалось подцепить вату наманикюренным ноготком. Три таблетки аспирина упали в мою ладонь.
Если бы это оказалась ее ладонь, я бы изобразила брезгливость.
В начале второй половины дня вынесли приговор. Ирландец вывалился в коридор, обнимаясь с доброжелателями, молотя кулаками воздух и вопя: «Всех угощаю!»
Меня удивило, что Николетт по-прежнему в суде. Она стояла одна, сумочка на локте. Никаких бумаг в руках, никакой показухи. Она выглядела так, будто стоит в очереди куда-то.
«Очень достойное обвинение, сэр, вы — настоящий джентльмен», — сказал владелец паба Бернарду. Когда он проходил мимо Николетт, продолжая молотить кулаками воздух, она отступила к стене, весьма прытко, и прижала ладошку к плоскому животу.
В тот вечер мой отец вызвал маму на разговор. Она вроде бы слушала, но продолжала бродить по дому, бесцельно и бессмысленно, так что он был вынужден следовать за ней по коридору на кухню, твердя: «Выслушай меня, Лилиан». Я заперлась в ванной и покопалась в настенном шкафчике, чего обычно избегала — сама мысль о лекарствах вызывала тошноту. Перебрала содержимое шкафчика: маленькая бутылка оливкового масла, какие-то пахучие мази, рулон лейкопластыря, ножницы с закругленными концами и пятном ржавчины на стыке лезвий, пачка бинтов в целлофановой упаковке. Гораздо больше средств экстренной помощи, чем я себе представляла. Я достала вату, скатала два шарика и сунула в уши. Потом спустилась вниз, глядя на ноги, беззвучно ступающие по лестнице, точно разведчики. Сквозь стеклянную дверь на кухню я даже не посмотрела. А некоторое время спустя ощутила вибрацию под ногами, как если бы дом содрогнулся.
Я вышла в кухню. Отца там не было; не составило труда сообразить, что он, должно быть, выскользнул через заднюю дверь. Кухню наполнял глухой стук. Мама стучала по краю кухонного стола той самой жаропрочной посудиной, в которой обычно оставляла отцу ужин. Закаленное стекло разбить не так-то просто. Когда посудина наконец разлетелась вдребезги, мама выбежала из кухни, оставив осколки на полу, и метнулась наверх. Я успела показать на свои уши, как бы предупреждая, что любой комментарий вслух окажется напрасным. Оставшись в одиночестве, я собрала крупные осколки, затем взялась подбирать мелкие и складывать на стол. Не располагая надежным помощником-пинцетом, из ковролиновой плитки я выковыривала осколки ногтями. Эта нудная работа заняла, по счастью, немало времени. Пока вокруг раздавались звуки, мне почти неслышные, я выкладывала осколки так, чтобы восстановить изображение луковиц и морковок на разбитой посудине. Когда это получилось, я оставила все на столе, для мамы, но на следующее утро увидела, что осколки исчезли, будто их никогда и не было.
Я приехала навестить их после рождения близнецов. Николетт болтала не умолкая. Пыталась вспомнить старые добрые времена — экран у стола и все такое, — но я решительно оборвала поток воспоминаний. Отец выглядел таким же серым, как в тот день, когда судили ирландца — хозяина паба, а кожа обоих младенцев отливала желтизной; но он, похоже, был всем доволен и ухмылялся, как беспутный юнец. Я разглядывала крошечные пальчики и ладошки, таращилась на них, умилялась, как полагается, и отцу это явно нравилось.
— Как твоя мать? — спросил он.
На плите что-то варилось, что-то темное, бурое, несъедобное.
Маме достался дом. Она заявила, что категорически не желает бросать свой сад. Отцу пришлось оплачивать содержание, часть этих денег мама потратила на занятия йогой. Хрупкая по сложению, она теперь стала очень гибкой. И каждый день приветствовала солнце.
Я вовсе не обременена предрассудками. Я до сих пор замечаю, как у людей меняется цвет кожи, когда они врут, как меняется природная раскраска. Николетт выглядела так, будто ее не мешало бы пропылесосить. Пахло от нее детскими хворями и бурым варевом с плиты, волнистые кудри свисали над ушами неопрятными патлами. Она прошептала:
— Иногда он уезжает на вызовы, ну, на дежурство. Пропадает допоздна. Раньше тоже так было?
Мой отец, всегда уверенный в себе мужчина, стоял на коленях перед младенцами, покачивал кроватку, напевал им негромко какую-то дурацкую детскую песенку. Любовь не дается бесплатно. На самом деле он оказался на грани нищеты, но, должно быть, предполагал, что так будет. Думаю, Саймон Каплан, Бернард Белл и прочие им восхищаются. Насколько я могу судить, все, кроме меня, получили то, чего добивались. «По стаканчику?» — предложила я. Николетт, обнаружив, что ее руки ничем не заняты, полезла в буфет и достала бутылку британского шерри. Я смотрела, как она сдувает с бутылки пыль. И в чем оно, скажите на милость, мое удовольствие?
Как-то летом в самом конце девяностых мне пришлось уехать из Лондона — позвали выступить перед литературным обществом того сорта, что считались старомодными еще на исходе предыдущего века. Когда настал назначенный день, я задалась вопросом, почему вообще согласилась; но сказать «да» проще, чем отказаться, и, конечно, когда даешь обещание, в глубине души веришь, что выполнять его не придется: случится ядерный апокалипсис или что-либо еще в том же духе. Кроме того, я сентиментально тосковала по дням самосовершенствования — эти читательские клубы, их основывали мануфактурщики со своими женами-продавщицами, или склонные к лирике инженеры, или слишком любящие супруг врачи, боровшиеся с унынием долгих зимних вечеров. Кто поддерживает их на плаву в наши дни?
В ту пору я вела бродячую жизнь, сражалась с биографией персонажа, которого успела невзлюбить. На протяжении двух или трех лет я пребывала в ловушке неблагодарного труда: выискивала факты, уже вроде бы найденные, комплектовала сведения, собранные мною ранее, перебрасывала их на компьютерные дискеты, которые имели обыкновение самостоятельно стираться по ночам. И вечно находилась в движении, заодно со своими картотеками, скрепками и дешевыми записными книжками на пористой, пятнистой бумаге. Потерять такую книжку было несложно, и я оставляла их в черных такси, на багажных полках электричек или выбрасывала вместе с кипами непрочитанных за выходные газет. Иногда мне чудилось, что я обречена бесконечно идти по собственным следам, бродить между Юстон-роуд и газетными архивами, которые в те дни еще располагались в Колиндейле, перемещаться между насквозь промокшим от дождей пригородом Дублина, где мой персонаж впервые увидел свет, и северным промышленным городом, где — через десять лет после того, как перестал считаться знаменитостью, — он перерезал себе горло в ванной железнодорожной гостиницы. «Несчастный случай» — так решил коронер, но было сильное подозрение в правоте этого вывода: для человека с длинной бородой мой персонаж брился очень уж энергично.
В тот год я потерялась и дрейфовала, отрицать не буду. А поскольку дорожная сумка у меня была всегда наготове, отказываться от визита в литературное общество не имелось никаких оснований. В письме-приглашении меня просили кратко и емко изложить членам клуба резюме моих исследований, остановиться на трех моих ранних романах, а затем ответить на вопросы из зала: после чего, по их словам, состоится «Выражение Благодарности». (Честно, прописные буквы меня встревожили.) Мне предложили скромный гонорар — сумма в письме не указывалась — и оплату проживания с завтраком в отеле «Роузмаунт», который расположен в тихом месте и видом которого, как интригующе заверяло письмо, я могу насладиться на прилагаемом фото.
Фото и вправду прилагалось к первому письму секретаря общества, напечатанному через два интервала на листке голубой бумаги (клавиша «г» на пишущей машинке западала). Я взяла снимок и присмотрелась к отелю. Фронтон навевает мысли о тюдоровском стиле; в наличии эркер, дикий виноград по фасаду — однако общее впечатление не в пользу отеля: как-то он расплывается, оседает и растворяется в очертаниях, точно один из тех домов-призраков, которые иногда возникают на повороте тропы и исчезают, стоит путнику проковылять мимо.
Поэтому я не удивилась второму письму, снова на голубой бумаге и с той же западающей «г»; в письме говорилось, что «Роузмаунт» закрывается на ремонт и переоборудование, поэтому меня вынуждены переселить в «Экклс-хаус», находящийся поблизости от места встреч общества и, как им видится, достаточно респектабельный отель. Опять же, письмо сопровождала фотография: отель оказался домом в длинной череде белых зданий; четыре этажа, два мансардных окна, точь-в-точь изумленно распахнутые глаза. Я была тронута такой заботой: проиллюстрировать размещение подобным образом. Сама я никогда не заморачивалась выбором места, лишь бы было чисто и тепло. И, конечно, частенько останавливалась там, где не было ни тепла, ни чистоты. Предыдущей зимой, к примеру, я жила в гестхаусе в пригороде Лестера, где воняло так, что сразу после пробуждения на рассвете я спешно одевалась и бежала из номера, а потом долго бродила по непроснувшемуся городу, топча башмаками скользкие и мокрые тротуары, минуя мили и мили двухквартирных домов с черненой штукатуркой на стенах, с мусорными баками на колесах и автомобилями на кирпичах вместо колес; исправно поворачивала в конце каждой улицы, переходила на другую сторону и возвращалась обратно, а за тонкими занавесками жители Восточных графств ворочались и бормотали во сне — десятки, сотни, сотни сотен пар.