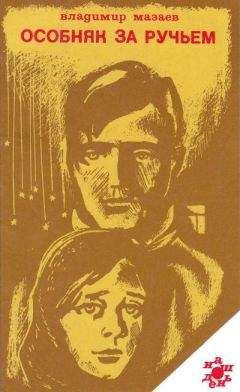— Послушайте… Инна, — оказал он устало, со снисходительностью старшего, — неужели вы в самом деле считаете, что нарушать законы и инструкции — моя естественная потребность?
Инна повернулись лицом к Заварзину, губы ее подрагивали.
— Скажите лучше, зачем вы меня взяли с собой?
— Как зачем? Чтобы строго соблюсти инструкцию.
— Перестаньте иронизировать. Вы, конечно, ожидали, что я откажусь, вот уж козырь вам будет! А когда я согласилась, решили скрепя сердце: ладно, пусть хлебнет горячего, в нашей шкуре побудет, вдруг кое-что поймет. Не так ли?
— Может, и так… — Заварзин склонил лицо, стал подтягивать на унтах ремешки. — А может, и нет.
— Не может, а так. Но ведь поймите — это мстительное чувство недостойно вас. Вы же интеллигентный, порядочный человек и должны быть выше этого.
— Да, в самом деле глупо получилось… — Заварзин выглядел смущенным, потом неожиданно улыбнулся: — Как это на языке юристов говорится? Презумпция виновности?..
Инна смешалась, обезоруженная его улыбкой, сама улыбнулась:
— Наоборот, презумпция невиновности.
— Разве? — удивился Заварзин. — Ну, это мне не подходит…
Инна стояла у входа в избушку, по колено в снегу, смотрела, как Заварзин привязывает к унтам лыжи — широкие остроносые коротыши, подбитые какой-то облезлой шкурой. По-видимому, их бросили за ненадобностью.
Снег вихрится, сыплется сквозь хвою на спину Заварзину. Меж деревьев проглядывают светлые, глубокие кусочки неба. Но ветер еще силен, деревья ревматически поскрипывают, вразнобой качают макушками.
Заварзин уходит быстро, взмахивая в такт шагу руками, как солдат. Инна смотрит ему вслед. Глубокую неровную лыжню на глазах затягивает суетливая поземка…
Инна возвращается в зимник.
Печь весело гудит, подпрыгивает от распирающего ее огня. Ледяное оконце тает, капли поклевывают пол, от движения нагретого воздуха шевелится торчащий из пазов мох.
Инна не знает, куда себя деть: то присаживается перед печкой, щепочкой сгоняя машинально в кучу выпавшие угольки, то подолгу глядит в окно.
Потом ложится на нары, прикрывает глаза рукой и ловит себя на том, что думает о Заварзине: где он сейчас? Дошел ли до охотничьей избушки или уже возвращается? Может быть, и в самом деле он найдет там Санникова? Да нет, она уже в это не верит. После возвращения в поселок ей придется уже всерьез начать следствие…
И вдруг мысль обжигает: следствие против Заварзина?
Она медленно подносит к глазам часы: пора бы ему вернуться, буран вроде уже совсем стих. Она встает, выходит из зимника: да, бурана почти нет, только шумит верховой ветер да скользят над самыми деревьями растрепанные шевелящиеся тучи. Глухо, неуютно вокруг.
Она слышит в пристройке стук, идет туда. Буланчик радостно вскидывает голову, изо рта у него торчит сухой стебель, он меланхолично перетирает его. Над спиной животного дрожит теплый парок. Инна выдирает из гривы засохший комочек репейника, сует в теплые губы лошади завалявшийся еще из города обломок печенья…
Уже задымили по углам сумерки, Инна зажгла и поставила на окно лампу — Заварзина все не было. Кончились дрова, она разрыла из-под снега чурбак и, неумело орудуя топором, ощипала его, пока он целиком не влез в печку.
Потом она решила приготовить горячий ужин. Она пересчитала в ящике картофелины: осталось восемь штук. Она очистила и порезала две на суп; остальные отложила — на всякий случай. Раскрыла банку мясных консервов. В рюкзаке случайно нашла старый, уже заветрившийся кусочек сала, отскоблила его и, мелко порезав, поставила жарить в чашке. По зимнику поплыл щекочущий аппетитный аромат.
Щеки ее разгорелись от печного жара. Она представила себе, как ввалится Заварзин, промерзший и усталый, как молча разденется, а потом подсядет к столу. И, не высказывая удивлении, как будто так и должно быть, начнет не спеша есть густой, пышущий паром суп с плавающими в нем янтарными кусочками сала.
А она сядет в сторонке и на правах хозяйки будет сидеть и смотреть на него. И если он даже не поблагодарит ее взглядом, то и не нужно. Ей просто будет хорошо от одной мысли, что она сделала ему приятное.
Тонко и отрывисто заржал Буланчик: Инна вздрогнула, уперлась глазами в дверь. Там; почудилось какое-то шевеление.
Инна подбежала, дернула дверь на себя — и тут же инстинктивно отступила. К ногам ее, потеряв неожиданно опору, повалился грузно человек, — весь заснеженный, в меховом треухе и короткой, перепоясанной ремнем шубейке. Он попытался подняться, но у него ничего не получилось — руки подкашивались, — и он ткнулся в пол лицом.
Инна схватила его за обледеневший рукав, попыталась тащить и только перевернула на спину. Человек сел на полу, прислонился к стене, огляделся.
Потом вдруг забормотал что-то, лег на бок, потянул колени к животу, словно удобнее устраиваясь, и затих.
Инна захлопнула дверь, в которую заметало, наклонилась над ним в смятении. Лицо его с обветренными губами и жиденькой растительностью на скулах было покойно: человек спал!
Человек спал и даже слегка похрапывал и чмокал губами, будто пережевывая что-то, а потом вдруг заплакал. Он длинно, по-детски всхлипывал, и даже слеза просочилась из-под прижмуренной ресницы и наискосок потекла к виску. И Инна теперь увидела, что перед ней совсем мальчишка, ну лет восемнадцать ему, не больше. Она заботливо сняла с него треух, обнажив белобрысую, стриженную под «канадку» голову, стащила набухшие растоптанные валенки, подсунула под голову свой полушубок.
Очнулась она среди ночи от странных хлюпающих звуков — открыла глаза. За окном было темно, из-под белого, заиндевевшего порога струился пар. Незнакомец сидел у печи на корточках и, давясь и захлебываясь, так что шевелились уши, скреб из котелка холодный суп.
Инна минуту наблюдала за ним. От мысли, что Заварзин так и не вернулся, хотя уже глубокая ночь и пурга, должно быть, затихли, у нее больно застучало в висках. Сидящий у печи белобрысый мальчишка, с чавканьем поедающий суп, особенно его шевелящиеся уши, вызвали у нее непонятное раздражение.
— Ну что? — спросила она. — Где Заварзин?
Парнишка оторопело оглянулся, глотнул.
— К-какой Заварзин? — проговорил он простуженным сиплым баском, заикаясь.
— Заварзин, твой начальник партии. Ведь ты же Санников?
Парнишка отставил котелок, вытер подбородок рукавом, не сводя глаз с Инны.
— Откуда вы меня з-знаете? Вы-то сама кто? Чего тут?
— Бог ты мой, — Инна поморщилась. — Ты бы сначала хоть за обед поблагодарил.
— Да спасибо, чего там… Под-дошел я за эти дни, думал — все, к-кранты.
— Где ты это время был?
— Одну ночь под кедрой перекантовался, чуть д-дуба не дал, а потом в охотничьей избушке — тут недалеко — как дурак сидел.
— Когда ты оттуда ушел? — спросила Инна, чувствуя, как все у нее внутри сжимается, будто перед ударом.
— Да когда, вчера, как стихать стало. Умотался по снегу, думал, не доцарапаюсь…
Инна медленно поднялась, взяла с полу свой полушубок и снова легла, укрывшись с головой. «Это из-за меня все, из-за меня», — думала она.
— Раз вы меня знаете, — Костя нерешительно потоптался, сел на уголок нар, — то скажите: что с Васькой Отургашевым? Вышел он?
— Вышел, вышел, — сказала Инна глухо. — В городе уже, в больнице.
— Что с ним? Тяжело?
— Обморозился.
— Дураки мы с ним, конечно, колоссальные… А Заварзин что? В избушку ушел? Д-давно?
— Вчера утром.
— От дураки, так дураки.
Инна откинула полушубок, внимательно посмотрела на Костю.
— Чего это ты себя навеличиваешь?
— А, — махнул Костя рукой, — да ну… Вот пожевать бы еще чего-нибудь — у вас не найдется?
— Сгущенное молоко в рюкзаке, хлеб; больше ничего.
— Смотреть не могу на сгущенку! — с отвращением сказал Костя, но все же поднял рюкзак, стал рыться в нем. — Это когда у меня Буланчик з-забурился в снег, я его так и сяк, — не идет, хоть реви. Провалился по самое б-брюхо — и ни с места. Обрезал я вьюки и седло заодно, а он все равно п-подняться не может. Ну, думаю, ладно, отдохнет, оклемается, сам выберется, а мне топать надо. Вытащил из вьюка четыре б-банки консервов, думаю: мало ли что. А банки все без этикеток. Какую потом ни открою — сгущенка. Представляете, какая у меня все эти дни с-сладкая жизнь была?..
В руках Кости оказалась фляжка. Он развинтил ее, понюхал, повел глазами на Инну…
Через час, в расстегнутой шубейке, уже осоловевший, Костя сидел за колченогим столом. Перед ним лежала раскрошенная булка хлеба, стояли кружка с водой и банка с крупной серой солью. Лицо его в жиденькой растительности по краешкам скул и с потрескавшимися от ветра губами искажала гримаса каких-то, только ему одному ведомых, переживаний.