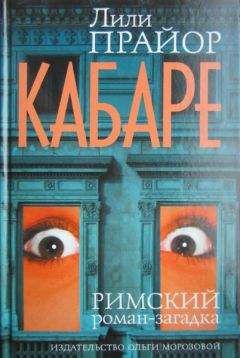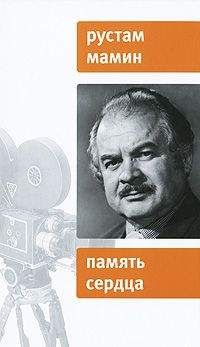— Я не Клодия Строцци, — заикаясь, уверяла она. — Я совершенно другой человек. Вы должны мне поверить.
Какое там! Отработанными движениями охранники запихнули ее обратно. Прежде чем закрылись двери, я успела обменяться с Клодией взглядами и ясно разглядела в ее глазах боль любви, томление и разочарование.
Я залпом выпила шампанское, поспешила в зал развлечений и уселась в первое попавшееся свободное кресло, уповая на то, что никто не обратит на меня внимания. Я чувствовала себя виноватой перед Клодией и нервничала от того, что пришлось нарушить правила. Может, меня тоже нужно было арестовать?
И в то же время мне было очень весело. Я не привыкла пить шампанское (никогда его не пробовала), и по всей вероятности оно ударило мне в голову. Что-то в зале — тусклый свет, приглушенный шепот, предвкушение, ароматы французских духов, табачного дыма, коньяка и полировки для мебели — напомнило мне о тех кабаре, в которых выступала мама.
В молодости, еще до нашего с Фьяммой рождения, мама пела на таких же теплоходах и объехала весь мир. Я напридумывала себе, будто они с папой познакомились на корабле, хотя на самом деле наш папа всегда оставался загадкой, запрещенной темой, которая не обсуждалась. Может, они встретились во время такого же круиза.
Я представляла его кем-то вроде персонажа немого кино — красивого и утонченного, возможно, с усиками, в костюме и галстуке-бабочке, с гвоздикой в петлице. Он в одиночестве сидит за одним из маленьких столиков, в его руке стакан виски, в котором позвякивают кубики льда. Возможно, слегка желтоватыми зубами он сжимает толстую сигару, и ее запах смешивается с ароматом дорогого одеколона.
На сцене раздвигается занавес, и в луче прожектора появляется мама в облегающем черном платье. Волосы собраны в высокую прическу, улыбка ослепительна.
И вот их взгляды встретились… Время замерло. Публика, официантки и оркестр, все словно растворились, треньканье рояля тактично смолкло, и вспыхнула любовь. Вот только это была не Мама, а Великий Фанго, фокусник.
Я привстала, словно во сне, чтобы получше разглядеть, как он достает кроликов из своего цилиндра, яйца вкрутую изо рта сидевших в зале дам и голубей из ушей джентльменов.
Потом выступали пожиратели огня, жонглеры, два клоуна и труппа акробатов, которые выделывали ловкие трюки с бутылкой, апельсином и проволокой. После антракта танцевали почти раздетые девушки. Они сопровождали выступление мировой знаменитости по имени Мел Картуш, который пел «There’s а Kind of Hush», «Michelle» и «I'll Never Fall in Love Again». Из-за сильного польского акцента эти песни звучали как-то странно, непохоже на оригинальное исполнение, но он вложил в них свое собственное очарование, и к тому же, у него оказался очень сильный голос. Я даже стала подпевать. Конечно, моему голосу далеко до маминого, но кое-что я все-таки унаследовала и горжусь этим.
Наконец объявили последнее отделение, и я испытала такой шок, что у меня все поплыло перед глазами, а руки и ноги сделались ватными. В последнем отделении выступал чревовещатель. Да, да, чревовещатель! Выдающийся, бесподобный Альберто Липпи. Я вспомнила мамино предсказание, и кровь ударила мне в голову: «Фредина… Я вижу чревовещателя…» Вплоть до этой минуты я не встретила ни одного.
Когда занавес снова распахнулся, я села прямо и вытянула шею, чтобы разглядеть происходящее через просвет между двумя женщинами за передним столиком. У одной была такая копна волос, что голуби фокусника свили в ней гнездо. А у ее подруги оказались уши, как у слона.
Пристроившись между дамами, я испытала ни с чем не сравнимое изумление, потому что увидела перед собой того самого толстяка-коротышку, который сидел рядом со мной на палубе. На сцене был именно он, а у него на коленях сидела кукла размером с человека. У меня засосало под ложечкой. Итак, он чревовещатель. Моей первой мыслью было: я никогда никогда не стану заниматься с ним любовью.
А он тем временем представил зрителям свою куклу: шаловливый школьник Малько.
— Никакой я не шаловливый, — пропищала кукла.
— Увы, леди и джентльмены, самый что ни на есть шаловливый, — возразил чревовещатель. — Вот на днях, например…
Так они и разговаривали. Нужно сказать, что когда говорила кукла, голос шел откуда-то не от нее, но рот толстяка-коротышки оставался закрытым, ни один мускул не дрогнул.
Под занавес этой части выступления толстяк-коротышка сообщил мальчугану, что тому пора спать, и уговорил лечь в чемодан. Этот большой черный чемодан я сразу узнала. Но даже из-под крышки продолжало раздаваться приглушенное бормотание куклы, которое затем сменилось тихими всхлипами и хныканьем.
Затем чревовещатель стал разговаривать за зрителей. Дородный мускулистый мужчина заговорил голоском кастрата. Графиня стала изъясняться, как торговка рыбой. Совсем молоденькая пассажирка запела голосом Фрэнка Синатры. И все это время толстяк хранил гробовое молчание. Не произнес ни слова. Финал был уже близок, когда по громкой связи к пассажирам обратился капитан и приказал срочно расходиться по каютам. Тут же началась давка. Женщины верещали и приподнимали длинные вечерние платья, проталкиваясь к выходу. А потом в зале вдруг раздался гром аплодисментов. Это чревовещатель смеялся последним.
Шумная толпа пассажиров хлынула из зала, а я беспокойно оглядывалась в поисках охранников. Подойдя к двери, я вдруг услышала мужской голос, шептавший мне прямо в ухо. Так близко, что было щекотно. Он снова и снова повторял мое имя:
— Фреда, Фреда, Фреда…
Я быстро обернулось. Рядом никого не было. Я вздрогнула. В затылке странно покалывало. Пошла дальше, и голос тихо произнес:
— Я твоя судьба.
Я буквально скатилась по ступенькам. Свет уже погасили, и на палубе третьего класса царил мрак. Я на ощупь шла к каюте, мечтая не ошибиться дверью. Еще утром на черном рынке, процветавшем в третьем классе, я купила свечку и спички, которые теперь нащупала под матрасом. При мерцающем свете, который стоил мне купальника и булки с маслом, мне предстала поразительная картина.
В каюте не осталось никаких следов Клодии. Все нормальные платья, на которые я обменяла свои маломерки, исчезли. Это был страшный удар. Придется теперь носить свою неудобную одежду. Улетучился даже запах Клодии, а вместе с ним плюшевая пижама и отвратительно серое нижнее белье, которое она гирляндами развесила над койкой. Испарились зубная щетка, паста с конфетным запахом и даже огромная канистра с бензином. Как будто Клодии Строцци вообще не существовало.
Может быть (подумала я и обрадовалась этой мысли), местные власти попросту перенесли ее вещи туда, где Клодию содержат под арестом. Так ей будет удобнее. Да, пожалуй. Хорошо, что ее теперь окружают привычные вещи.
Я забралась на свою койку и похвалила себя за то, что успела воспользоваться душем, пока была наверху. У нас в третьем классе душевую не мыли с самого начала круиза, если вообще когда-нибудь мыли. А кроме того, в нее всегда стояла такая очередь, что и не попадешь.
Я задула свечу, чтобы зря не расходовать, легла и стала думать о чревовещателе. Он никак не шел у меня из головы. Все еще слышался голос, шептавший мне на ухо. Я даже чувствовала легкое дыхание, из которого рождались слова:
— Фреда… Я твоя судьба.
Интересно, это правда?
Я уже дремала, когда мне показалось, будто снаружи раздался сильный всплеск, а потом такой звук, какой издает вода, проглатывая что-нибудь тяжелое. Потом я уснула глубоким безмятежным сном.
В пять утра по третьему классу разнесся звук гонга.
— Подъем! Подъем! — настаивал металлический голос.
Счастливые и возбужденные, мы поднимались на палубу и готовились к высадке. Лайнер входил в бухту возле Порт-Саида, где мы должны были единственный раз в жизни увидеть Сфинкса и пирамиды. Отлично помню то волнение, которое охватило меня, когда я стояла на палубе, вдыхала свежий морской воздух, смотрела на приближавшийся берег, на лодки и портовую суету, на купола и минареты в глубине, на огромные рекламные щиты, теснящиеся многоквартирные дома и на роскошные пальмы, приветствовавшие гостей этого восхитительного приморского города. В тот момент я была так счастлива, что забыла обо всех неудобствах и ни на что не променяла бы эту картину.
Причаливали, как обычно, не торопясь, и вот, класс за классом, словно в школе, нам разрешили сойти на понтон из плававших на воде канистр, который вел к причалу. Понтон мне понравился. Он все время дергался под ногами, как поплавок: вниз-вверх. Я вспомнила о Клодии. Ей бы тоже понравилось.
Пройдя таможню, мы очутились в Египте, в жаре, напоминавшей пекарню. Во мне словно ожили все чувства. Глаза засияли от яркого света. Все оттенки казались такими сочными: ослепительно синие, красные, желтые и кипельно-белые. Воздух наполнился восхитительными звуками: призывы к молитвам, доносившиеся с минаретов, радовали сердце; крики уличных торговцев были удивительно непривычными; даже звук автомобильных моторов и клаксонов казался новым и загадочным. В нос ударили запахи: выхлопные газы, сточные канавы, тмин, перезрелые бананы, жареная козлятина, размякший на жаре бетон, мусор, навоз.