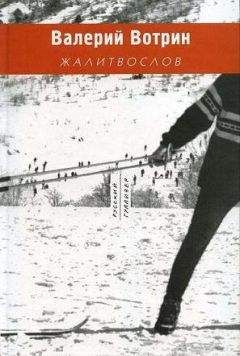Это и впрямь был чулан, где хранились ведра и веники. Однако каким-то образом сюда поместился стол, и за этим столом крохотная старушка, видом похожая на уборщицу, внимательно изучала какой-то пухлый том. При виде Федора Ивановича она аккуратно закрыла книгу, и он увидел на обложке ее название — «Codex Iustinianus». Но удивило Федора Ивановича не то, что уборщица изучает Юстиниановы декреталии, — арбитражный суд все-таки, сюда, может, с другим образованием на работу не берут. Удивило его то, что старушка ласково кивает ему, словно признав.
— Мне бы… справедливость, — неуверенно произнес он.
— Так я ж Справедливость и есть, — просто сказала она.
Он с сомнением оглядел ее и произнес:
— Старовата ты для Справедливости.
— Кому, может, и старовата, — спокойно ответила она. — А тебе — в самый раз.
После этих слов он как-то успокоился. Вошел, протиснулся за стол, стал вытаскивать бумаги, но она его остановила:
— Этого не надо. Знаю уже, еще со вчерашнего. Настрадался, сердешный…
— Настрадался, — вздохнул он. — У кого только не был.
— Не у тех ты был, — сказала она.
— Да хоть у кого, лишь бы справедливость восторжествовала.
— Ужо восторжествую. Колька у меня доиграется.
— Так ты его знаешь?
— Как же мне его не знать? Негодный он. Живет не по правде. Он у меня здесь, — она постучала пальцем по книге.
Федор Иванович так весь и подался к ней.
— Ты уж это… сделай с ним что-нибудь… чтобы он…
— Ты мне это брось, — оборвала она его, строго пригрозив пальцем. — Я тебе что, киллер? Я, наоборот, чтобы все по закону…
— Да нет, — смутился Федор Иванович, — я не это имел в виду. Я это к тому, чтобы правда…
— Во-во, — одобрила она. — Вот и я за это. Ну, говори, у кого был.
— Да много у кого, — принялся Федор Иванович припоминать. — У Гутова Павла Петровича, у… — и он назвал еще много имен, которые ему довелось узнать за последнее время.
Она молча кивала, а когда он закончил, произнесла:
— Говорю же, не у тех ты был. Некоторые-то даже у меня тут, — она вновь постучала пальцем по книге. — Разве к таким ходят? Один вот, к которому ты приходил, после твоего ухода снял трубочку да позвонил соседу твоему.
— Глотову? — вырвалось у Федора Ивановича.
— Глотову, Глотову, — кивнула она. — Разве к таким ходят? Пиши, значит, — здесь, в арбитражном суде есть Омельянов Владимир Егорович. Хороший он человек, по правде живет. Он тебе с твоим делом поможет. Потом в министерстве сидит Серова Галина Сергеевна, у нее обязательно отметься. Да адвокатом возьми Кулакова Виктора, он тебя не подведет. Всем им скажи — от меня, дескать. А Надька Лядова твоя — купленная. Хорошо хоть, что указала на меня, а теперь повременю ее в книгу заносить. А так — прямой кандидат.
Он поднял на нее глаза, спросил:
— Чего ж ты допустила-то?
— Это не тебе судить, — сказала она строго. — И главнее меня есть. К тому же…
— Что? — спросил он, подождав.
Она отвела глаза, лицо ее посуровело.
— Сидела я, — тихо сказала она, когда ждать уже стало невтерпеж. — Недавно вот вышла. Спасибо, люди добрые на работу взяли.
— За что сидела-то? — так же тихо спросил он.
— Преступления против конституционного строя пришили, — ответила она, не поднимая глаз. — Спасибо, приняли во внимание возраст да то, что срок первый, — попала под амнистию.
— Сколько дали-то? — с жалостью спросил Федор Иванович.
— Влепили на всю катушку, — сказала она, — да отсидела всего два года.
— Как же ты… теперь-то?
— Да вот так. Помогаю, чем могу.
Федор Иванович смотрел на нее, и так вдруг сердце у него защемило, что невольно он приложил руку к груди.
— Болит? — тихо спросила она.
— Еще как болит, — признался Федор Иванович.
— Вот и у меня болит.
— Так, может, таблеток нужно? У меня аптекарь есть знакомый…
— Знаю я твоего аптекаря, — тихо сказала она, и Федор Иванович понял, что и аптекарь уже в той книге, что лежала перед ней на столе.
— Ну, тогда пойду я, — сказал он и поднялся. — Спасибо тебе.
— Не за что, — ответила она. — Любе привет передай. Хороший она человек.
— Передам, — пообещал Шишов и вышел из комнатки.
Справедливость глядела ему вслед, как тяжело, прихрамывая, бредет он по коридору.
— Иди, иди, родимый, — негромко произнесла она. — Скоро для тебя все само разрешится.
Был уже конец дня. Вздохнув, она взяла ведро, швабру и вполголоса произнесла…
— …Был лес, а стал вертеп разбойников! Ужо погоди, Господь разгневается и ударит тебя молнией, произведет над тобою суд, то-то будешь гореть-полыхать. И поздно уже будет молить о прощении, о том, что белки невинные, птицы, — будешь гореть-полыхать за неправедное свое житье, и твои разбойники вместе с тобой!
Бормоча эти слова и громко стуча посохом, монах быстро шагает по безлюдной дороге. Тьма опускается на окрестности, сгущается в густом лесу по обе стороны тракта. Внезапно остановившись, он с подозрением оглядывается. Но маленькой фигурки не видать, никто не спешит за ним. Монах успокаивается, со страхом смотрит на окружающую дорогу чащу и бормочет, грозя лесу посохом:
— Вот ужо Господь изольет на тебя свой гнев…
Тут он замолкает, снова оглядывается, словно колеблясь, а потом, удостоверившись, что никто его не слышит, вдруг обращается к молчащему лесу громким, хорошо поставленным голосом:
— Так говорит Господь Бог устами смиренника вселенского — вот Я на тебя, лес Ланакенский, за то, что был лес, а ныне стал гнездилище разбойников! Превращу тебя в уголья, а укрывающихся в тебе — в золу. Слушай же мое слово, ибо изрекаю на тебя суд…
Так он говорит долго, время от времени потрясая посохом. Лес и все, что в нем, терпеливо слушает. Наконец, монах устает и замолкает. Так же внезапно он возобновляет свой путь, явно удовлетворенный, бормоча:
— Вот так-то, и произнес суд, и сказал, а Господь теперь не замедлит, ужо не замедлит.
От разбойников брат Йодокус давеча пострадал. Остановили, стали допытывать, есть ли деньги, даже пригрозили смертию. Однако выстоял и произнес на них слово, и сказал многое, да такими глаголами, что огнем блистали, ибо говорить он может хорошо, весьма хорошо. И преклонились, и попросили благословить, и затем отпустили, смиренно покаявшись, и отправился он далее, куда вел его Господь. Так спас его Господень дар красноречия, ибо пронял душу неправедных Божиим глаголом.
А теперь направляется в Неерхарен, дабы по просьбе пригласивших его жителей произнести там проповедь. И выслушать его соберется множество народа, ибо всегда собирается многое множество народу на все его проповеди.
Он вновь останавливается, словно споткнувшись, и оглядывается — нет, никто не следует за ним. Ужель на этот раз обойдется?.. Вот уже и Неерхарен, владение благородного Аренда Доббельстейна. Уже ожидают его здесь, встречают всем клиром, окружают, ведут в дом торговца Пауля Уйтендале, где уже приготовлена трапеза. За стол сажает его сам торговец Пауль Уйтендале, тут же жена его и дети его. За едою расспрашивает их брат Йодокус с живостью обо всем, что происходит в общине, обо всех делах без упущения: и кто у кого родился, и кто умер, и крестили ли тех, а тех отпели ли. Обо всем расспрашивает брат Йодокус, и торопятся ему ответить, и отвечают подробно. А потом, к концу трапезы, начинают и его самого расспрашивать, где побывал и кого видел. И отвечает брат Йодокус, и вытаскивает грамоту, и показывает:
— С дозволения его преосвященства епископа Мюнстерского хожу по Нижним землям и проповедую слово Божие. А был в Гронингене, и в Леувардене, и в Гарлеме, и в Амстердаме, и в Лейдене, и в Утрехте, и в Неймегене, и в Тильбурге, и всюду проповедовал, а ныне иду в Маастрихт слово Божие проповедовать же. Ибо всюду наблюдается отпадение от истинной церкви, многие ударились в изучение философов-язычников. Монастыри запустевают, а паства глуха, не прислушивается. Пущай уподоблюсь глаголящему в пустыне, а все ж будут знать, что был пророк среди них, как писано у Иезекииля.
Окончив трапезу, благословляет всех брат Йодокус и отходит ко сну. Приготовлена уже ему постель, и перед сном молится брат Йодокус и читает Писание, приуготовляясь к завтрашней проповеди.
Наутро колокол созывает всех к проповеди. Множество народа собирается в церкви. Уже с утра душно, дело к грозе. Люди ждут час, ждут другой: проповедник не идет. Наконец, богобоязненный торговец Пауль Уйтендале решает узнать, в чем дело. Он находит брата Йодокуса стоящим на коленях и погруженным в молитву. Монах открывает глаза.
— В чем дело? — почти грубо спрашивает он.
— Люди собрались, ждут, — отвечает смущенный торговец.