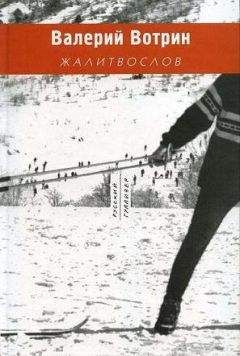— Великое множество народа… Господь призвал… произнесу на них суд, не отвертятся… пущай знают, кто был среди них…
Наконец, он выбивается из сил и становится тих. Гордыня кладет ему прохладную руку на лоб.
— Прошу тебя, — молит он, — пойди в церковь, произнеси там проповедь. Скажи им, что я болен, что ты за меня.
Она печально качает головой, говорит:
— Как же я это сделаю без тебя? Это ты умеешь говорить. Я умею только вдохновлять.
— Прошу тебя! — молит он. — Они собрались там… ждут. Я передохну пока. Я так устал.
— Я не могу, Йодокус, — грустно отвечает она.
Он затихает, лежит неподвижно.
— А ты и вправду стала маленькая, — еле слышно произносит он.
Она лишь виновато улыбается в ответ.
— Ты правда меня любишь? — спрашивает он.
Она кивает, гладит его по голове.
— Я тоже тебя люблю, — шепчет он. — Всегда любил.
Она говорит:
— Я знаю.
— Теперь ты найдешь другого мужчину, да? — спрашивает он.
Она качает головой.
Входит священник Йохан Хёйбрехтс, Гордыня делает ему знак, он нагибается к ней, они о чем-то вполголоса разговаривают. Брат Йодокус тихонько стонет.
— Поторопитесь, — говорит Гордыня священнику. Тот уходит и вскоре возвращается со святыми дарами. Наклонясь к брату Йодокусу, он видит, что тот снова впал в беспамятство. Священник Йохан Хёйбрехтс в волнении приступает к глухой исповеди.
Гордыня, закрыв лицо руками, плачет.
* * *
Йодокус Стандонк, славный своими проповедями по всем Нижним землям и Германии, скончался 15 мая 1507 года в Маастрихте. В последний путь его провожало великое множество народа. Согласно его последней воле, он был погребен на перекрестке дорог, как самоубийца, землю на его могиле вытоптали, чтоб всяк видел, что здесь лежит наивеличайший смиренник вселенский. Через тридцать лет прах его с почестями был перенесен в церковь святого Мартина и положен в мраморный саркофаг.
Через два года в доме лейденского печатника Яна Северсена появилась одетая в траур молодая женщина. Она была статна и красива, но глаза ее были полны печали. Молча вручила она ему некую рукопись. Когда печатник Ян Северсен оторвал глаза от рукописи, оказавшейся полным сводом проповедей знаменитого Йодокуса Стандонка, чтобы спросить, каким образом попал к его посетительнице бесценный манускрипт, женщина уже исчезла.
Проповеди Йодокуса Стандонка были изданы в Лейдене в 1509 году.
Женщина являлась то там, то здесь. В последний раз ее, маленькую, совсем крошечную, видели в Виттенберге 31 октября 1517 года — она сопровождала…
…колонну грузовиков во главе с уазиком, въехавшую на территорию базы со стороны мятежного села, где позавчера закончилась операция, полковник Зверцев принимал лично. Два грузовика — в одном раненые, другой битком набит пленными. В уазике, как выяснилось, тоже был раненый — командовавший операцией капитан. Его положили на носилки первым и чуть ли не бегом понесли в лазарет. Потом вернулись за ранеными — их было семь человек, один совсем плохой. Двухсотых не было, и об этом Зверцев уже знал — об удачной операции успели сообщить в штаб, а оттуда уже пришло указание принять и разместить раненых.
Пленных тоже необходимо было разместить, но вот где? Отведенные под это дело помещения были уже набиты под завязку. Зверцев, откровенно говоря, был недоволен тем, что базу превратили в пересыльную тюрьму. Приземистый, но быстрый в движениях, широколицый, с просвечивающей сквозь редкие светлые волосы загорелой лысиной, он воевал еще в Афгане, где командовал взводом. Поэтому здесь, в горах, он чувствовал себя в своей стихии. Пленные его раздражали — еще и тем, что которую уже неделю на базе сидела группа оперов из центра, допрашивала пленных. Пожалуй, эти раздражали его еще больше, он чувствовал, насколько они не к месту здесь, где залпы орудий, работающих по горам, слышались совсем близко.
Это случилось при выгрузке пленных. Их было около десятка — безмолвных, заросших бородами. Двое были ранены, их выносили на руках свои же. Последним спрыгнул молодой совсем паренек, лет семнадцати. «Экий смазливый какой», — со странным неудовольствием подумал Зверцев, и в то же время что-то шевельнулось внутри. Парнишка бросился помогать раненым. «Расторопный какой… бойкий», — думал Зверцев, глядя на него и чувствуя необъяснимую к нему симпатию. Группу пленных окружили приезжие опера и солдаты с автоматами. Зверцев принял рапорт и отправился к себе в кабинет.
Тут он ее и увидел. В голубом платье, в платке, она была похожа на монашку. Простое лицо, глаза будто заплаканные. Зверцев так и застыл на пороге. Непонятно, кто ее сюда пропустил. При его появлении она поднялась, сложив руки и глядя на него своими глазами, в которых словно застыли слезы.
— В чем дело? — спросил Зверцев резко, проходя за стол. Вот так запросто к нему еще не являлись.
— Я… — начала она.
— Кто вас сюда пропустил? — перебил Зверцев.
Она покачала головой, произнесла:
— Разве можно меня остановить?..
Она молча рассматривал ее. Из комитета матерей? Журналистка? По всему видно, журналистка. Зверцев поморщился. Журналисты его раздражали.
— Кто вы такая? — спросил он.
— Я — Хумилитас, — произнесла она.
«Испанка?.. Француженка?..» — подумал Зверцев. Иностранка, в общем. И говорит с акцентом.
— Я вас слушаю, — произнес он.
И тут она совершила неожиданное.
— Пожалей их, — сказала она, делая шаг вперед.
— Что? — спросил пораженный Зверцев, а она уже говорила, глухо, сдавленно:
— Их там сорок два человека, некоторые ранены, в тесноте, без воды… два старика среди них, по ошибке их взяли, не воевали они… в яме четыре человека, в ужасных условиях… мальчик, ты его видел, он сам с ними пошел, два брата его тут, раненые… он не воевал… ты его видел… тебе стало его жаль…
«Была среди них… кто допустил?.. сказано, журналистов не пускать», — возникли мысли у Зверцева, и тут внезапно до него дошло. Он вспомнил — выбеленное знойным солнцем небо, какой-то пыльный кишлак, кучку взятых в плен духов у желтого дувала — худых, черных, без автоматов выглядящих теми, кем они до войны и были, — обычными дехканами. И голос с иностранным акцентом, повторявший: «Сжальтесь… они раненые… они раненые…». Тогда он, помнится, приказал отконвоировать пленных в распоряжение части, а что с ними потом стало, один Бог знает. Но эта, она, оказывается, тоже была там, в Афгане. Он с удивлением рассматривал ее, а она все повторяла глухо:
— Раненые… он не воевал…
И вдруг он действительно понял — да, раненые. И мальчишку вновь вспомнил, и тех стариков, которых и впрямь замели под горячую руку — нашли у них какие-то берданы, вот и подумали, что воевали старые. Так здесь в каждом доме если не отличное ружье, то такой вот кара-мультук. Народ такой, традиции. Что, ради этого и людей сажать? И ямы эти… действительно. Как-то по-человечески надо бы. Понятно, не тюрьма у них тут, идут военные действия, надо же где-то пленных держать. Но и человеческими условиями пренебрегать не следует. Как-то надо… по-людски, что ли… по-человечески…
И пока он думал обо всем этом, то внезапно увидел, что на лице ее проглянула улыбка — светлая, ласковая. Она смотрела на него и улыбалась, и было это ободрением. Он встряхнулся и удивился — в первую очередь себе, что мог такое подумать. Это потом пришло, что мысли не его, что он никогда ни о чем таком не думал. И тут же мысль явилась ему.
Она еще улыбалась, когда он с растяжкой произнес:
— Ямы, говорите.
Улыбка ее исчезла при виде его лица, сменилась тревожным выражением.
— За последний месяц у нас шестеро пропало, — продолжал Зверцев. — Шестеро военнослужащих. Двое — во время операции, еще четверо пропало из части. Тел мы не обнаружили. Значит, в плену они. Требований мы еще никаких не получали. Но вы-то должны знать…
Для него было неожиданным, что она горячо закивала.
— Да, да… Я знаю о них. Их жалеют тоже.
Черт знает, немецкий, что ли, акцент?..
— Жалеют? — нехорошо улыбнулся Зверцев. — Кто ж их, интересно, жалеет? — Потом смысл ее слов до него дошел: — Так вы действительно знаете, где они?
Она снова закивала:
— Знаю, да.
— Можете указать? — Он уже снимал трубку.
Так же горячо она затрясла головой, на лице отразился ужас.
— Нет, вам нельзя… они прячутся…
— Наши у них в ямах? — перебил он ее.
— Да, в ямах, — кивнула она, — но их жалеют, кормят.
Зверцев в ярости швырнул трубку:
— Так какого… — тут он еле сдержался, женщина все-таки, — с какой стати нам их жалеть? Почему не хотите показать?
Она опустила глаза.
— Я не помню дороги. Я… не ногами туда шла.