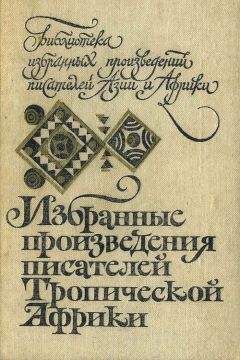— Ты напрасно притворяешься, будто убираешь посуду, — проговорила госпожа, повысив голос. — Открой бутылку Перье и оставь нас в покое, господин Тунди.
Я подал им искристый напиток.
— Госпоже ничего больше не угодно? — спросил я.
— Нет! — нетерпеливо ответила она.
Я поклонился и, пятясь, вышел из гостиной. Проходя мимо веранды, я услышал, как хлопнула дверь и ключ щелкнул в замке.
Слова молитвы всплыли у меня в памяти, и я громко повторил их. Мы пели эту молитву по-французски, когда кто-нибудь был при смерти:
Закрой дверь, апостол Петр,
Закрой дверь и повесь ключи,
Он не придет, он не умрет,
Закрой дверь, апостол Петр,
Закрой дверь и повесь ключи…
* * *
Зажав нос одной рукой, Баклю держал двумя пальцами гигиенические салфетки. Он направлялся в кухню. Повар захлопнул дверь под носом у приятеля, осыпав его отборной бранью. Тот ушел смеясь в прачечную. Несколько минут спустя Баклю вернулся; с его мокрых рук стекала вода, и он размахивал ими, чтобы обсушить.
— Не подходи! — крикнул повар, приоткрывая дверь. — Не подходи!
— Что такое? — спросил Баклю, расхохотавшись. — Можно подумать, будто ты выше таких вещей! При одном взгляде на меня тебя начинает мутить? А мне каково? Ведь я стираю белье вот этими руками!
Он потряс кистями рук и продолжал:
— Что поделаешь, каждому свое! Ты возишься с кастрюлями, я — с бельем…
Повар смотрел на него, раскрыв рот.
— Удивительно, что ты еще не привык к этому, — сказал Баклю. — Сдается мне, ты не впервые видишь грязное белье…
— Что поделаешь, — заметил повар, проводя ладонью по лицу, — сколько бы раз ты ни видел такое, всегда кажется, что прежде глаза твои были где-то далеко… Что сказали бы наши предки, если бы знали, что мы будем стирать на белых!
— Существуют два мира, — сказал Баклю, — наш мир, исполненный уважения, тайны и колдовства… И мир белых, где все выставляется напоказ, даже то, что не создано для этого… Нам остается только приспособиться… Мы, портомои, похожи на врачей, мы касаемся того, что претит обыкновенному человеку.
— Кто мы такие для этих белых женщин? — спросил повар. — Все те, у которых я служил, давали стирать эти вещи своему портомою, словно он не мужчина… У белых женщин нет стыда…
— Какой там стыд! Ведь они живые мертвецы! — не выдержал Баклю. — Разве у мертвецов есть стыд? Можно ли говорить о стыде, если белые женщины дают целовать себя в губы среди бела дня, при всем честном народе! Если они готовы с утра до ночи тереться головой о щеку мужа… а чаще всего любовника, испуская нежные вздохи. Если им глубоко наплевать, где они в эту минуту находятся! Они, быть может, хороши в постели, но неспособны сами стирать свое белье… Говорят, они много работают у себя на родине. Зато здесь!..
Баклю собрался продолжить разговор, но тут на веранде появилась госпожа. Он взглянул на нее, поклонился, затем подмигнул нам.
— Что ты тут делаешь, Баклю? — спросила она.
— Ничего, госпожа. Я рассказывал о своей подружке…
Госпожа закусила губу, чтобы не рассмеяться. Она сделала усилие над собой и сказала:
— За работу! Сейчас не время болтать…
Баклю удрал в прачечную.
* * *
Я был немного удивлен, увидев жену доктора на лестнице резиденции. Было четыре часа пополудни, и госпожа еще спала. Я подбежал к докторше, чтобы взять у нее зонтик. Она поспешно отстранила меня и отвернулась. С гордым видом преодолела две последние ступеньки и вошла на веранду. Постучала в дверь и, не получив ответа, обернулась. Спустилась на одну ступеньку, но не решилась идти дальше. Смирившись, позвала меня. Подняла свои выщипанные брови и обратилась ко мне, не разжимая золотых зубов.
Я опрометью бросился в спальню госпожи. Дверь не была заперта. Госпожа спала на кровати с открытым ртом, одна рука свесилась, ноги были скрещены. Муха, похожая на родинку, сидела у нее на щеке. На госпоже были брюки; ложась спать, она расстегнула ажурную кофточку, и видна была упругая грудь в розовом лифчике.
Громко кашлянув, я постучался. Она вздохнула, открыла глаза и спрыгнула на пол, прикрыв грудь.
— Супруга доктора на веранде, — сказал я в виде извинения.
Она застегивала кофточку, смотря на меня со сдержанным гневом и презрением.
— Проводи ее в гостиную, — молвила она. — Ты что же, решил больше не стучаться?
— Дверь была отворена, госпожа, — возразил я, — но я все же постучался…
— Хорошо, — отрезала она. — Приготовь лимонного сока с водой Перье.
Госпожа захлопнула дверь у меня перед носом. Когда я вернулся на веранду, докторша пудрилась, гримасничая перед крошечным зеркалом, которое лежало у нее на ладони. Она старательно вытягивала несуществующие губы. При каждом движении морщины веером разбегались под ее тусклыми глазками. Она спрятала зеркало и пудреницу. Вздрогнула, заметив меня. Снова подняла выщипанную бровь, деланно улыбнувшись, от чего ее рот забавно растянулся. Я наклонил голову и распахнул дверь гостиной. Она высокомерно проследовала в нее. Я указал ей на кресло. В эту минуту появилась госпожа.
Она успела надеть свое серое шелковое платье и освежить лицо. Она разыграла удивление, выразила удовольствие по поводу посещения гостьи. Та заверила госпожу, что у нее превосходный вид, а госпожа солгала, будто находит весьма изящной шляпку докторской жены. Они заговорили о жаре и наступающем периоде дождей. Как старая колонистка, докторша любила все преувеличивать. Она спросила, как чувствует себя комендант, рассыпалась в похвалах ему и, не переводя духа, заговорила о г-же Сальвен, о ее супруге и обо всех данганских белых. Стала жаловаться на приступы малярии, которой болеет ее муж, и прервала свою речь лишь для того, чтобы осчастливить меня холодным «спасибо», отстранив горлышко графина от своего стакана. Госпожа слушала ее, принужденно улыбаясь и сжав двумя пальцами подбородок. Они подняли стаканы, пригубили их и почти одновременно поставили на место. Докторша сложила руки. Она наклонилась к госпоже, с пронзительным смехом откинулась на спинку кресла и снова наклонилась. Они закурили. Докторша принялась повторять все свои рассказы. Заговорила о дочери-медичке, которая учится в Париже, о будущей зиме, когда она увидит наконец свою Мишель.
Сперва я по привычке прислушивался к разговору, притворяясь, будто занят делом. Когда уши мои устали, я стал думать о другом. Не знаю, о чем шла речь, когда слова докторши привлекли мое внимание.
— …вчера, после обеда… — сказала она.
Это все, что я услышал из целой фразы, которую она произнесла, наклонившись к уху госпожи.
Они одновременно посмотрели в мою сторону, и госпожа покраснела. Затем они перестали обращать на меня внимание.
— Представьте себе, — продолжала докторша, — слуги воображают, будто мы не понимаем их языка… Мои бои растерялись вчера, когда я застала их на веранде. Они показывали пальцем на господина Моро, проходившего мимо вашего дома, и говорили все разом, смеясь и крича: «Тунди! Тунди!» Я спросила, в чем дело, и узнала…
Докторша опять наклонилась к госпоже, и они опять взглянули на меня. Госпожа опустила глаза.
— Все они такие, — продолжала докторша, — противные, назойливые. Они всюду и нигде…
Хотя она говорила шепотом, я услышал последние слова:
— Будьте осторожны… Еще есть время, ведь ваш муж ничего не знает…
Госпожа хотела было схватиться за голову. Но передумала, осушила стакан и вытерла капельки пота, выступившие на ее лице. Обе дамы встали и вышли на веранду. Они еще долго беседовали. Горн протрубил половину пятого. Госпожа проводила докторшу до самой улицы.
Вернувшись, она позвала повара, чтобы зажечь лампу «Аида». Это я зажигал ее каждый вечер, когда первые ночные бабочки задевали меня своими крылышками. Отец Жильбер научил меня делать это, и я гордился своим умением. Остальные слуги коменданта смертельно боялись прикасаться к бензиновым лампам. Оно и понятно — из-за взрыва этих ламп осталось немало вдов в туземном квартале.
Повар притворился глухим. Госпожа сама отправилась на кухню. Она сделала вид, будто не заметила меня, хотя прошла совсем близко, потянула повара за фартук и указала ему на лампу, стоявшую на веранде. Повар воздел руки в знак мольбы и сказал, что с тех пор, как работает у белых, ни разу не зажигал лампы «Аида». Госпожа не сдавалась. Она позвала Баклю, но тот, верно, отсыпался где-нибудь в туземном квартале, опьянев от изрядного количества пива…
Госпожа опять указала повару на веранду, но тот заартачился, как баран, которого тащат под дождь. Она подавила гнев и обернулась ко мне. Казалось, она делает нечеловеческие усилия, чтобы заговорить со мной. Я не стал ожидать приказаний и поспешил зажечь лампу.