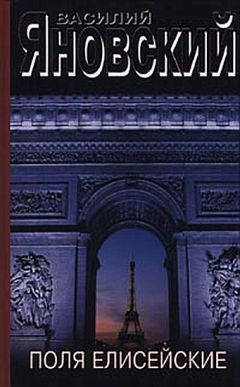Смышленный, легкомысленный, глуповатый и не без добрых порывов, он, поначалу, заинтересовался Бобом Кастэром и довольно энергично взялся за его дело, не требуя пока вознаграждения, — кроме сумм на покрытие расходов.
Они написали бумагу. С обратной почтой пришел ответ: не касается данной инстанции. Составили другую бумагу. И снова отвод. Адвокат обратился к местной администрации. Вежливый, но твердый отказ. Боб смутился, а Прайт торжествовал:
— Теперь, ссылаясь на все эти справки, можно ударить по Вашингтону.
И он уже приготовил нужное прошение, подчас смахивавшее на философскую диссертацию. Так, он утверждал, что справедливое решение по делу Роберта Кастэра не только не расшатывает расовых стержней, но наоборот утверждает их святость и незыблемость. Ибо, если гражданин, который выглядит цветным, будет признан белым, то этим самым будет доказано, что раса не является внешним признаком, а метафизической, внутренней величиной.
Но к тому времени на имя адвоката прибыло странное послание, подписанное символическими знаками. Ему и Бобу предлагалось немедленно оставить опасную игру, под угрозой бесшумной и умелой расправы… и ссылка на двух-трех бесследно исчезнувших адвокатов и подзащитных.
Боба это мало тронуло. Для него, гибель в бою, если и была неудачей, то никак не бессмысленной. Но Прайт струсил и сразу отказался продолжать сотрудничество.
— Ах, вы наивны, вы наивны, — бормотал, хватаясь за сердце: он что-то знал и боялся проговориться.
Боб пробовал всячески его ублажать: водил в ночные клубы, спаивал импортными винами… бесплодно.
Только когда нашелся другой адвокатишка, темный субъект, готовый возобновить тяжбу, Прайт, из жалости, уступил и дал бумагам нужное движение. Но делал это лениво: Бобу приходилось непрестанно его подгонять.
По вечерам Боб Кастэр иногда развлекался: наладил себе некое подобие светской жизни. Через коридор соседом его был Мистер Болль (Ники) — черный журналист французского воспитания. Там, раза два в неделю, собиралось шумное интернациональное общество. Поначалу Боб наведывался туда неохотно (настойчиво зовут, а заснуть все равно не удастся), но постепенно втянулся, находя даже особую прелесть в близости с парнями-джентельменами. Всех цветов и наций intellectuals (редко белые-американцы: эти старались говорить по-английски с акцентом, чтобы сойти за французов или русских. Англо-саксов здесь, в общем, ненавидели).
Сабину Боб изредка встречал. К нему она больше не приходила. «Болит ли один зуб или два — почти все равно», — уговаривал себя Боб. В девятнадцать лет юноша обнимает стан девушки — это чудесное гнездо, разветвление — и думает: «впереди еще много такого и даже лучшего». Перевалив за тридцать, он вдруг замечает, что лучшего совсем не много. Это случается всего два-три раза в жизни (и в прошлом вспоминается как один час или вечер). Тогда он решает: скупой и серьезный, при первой удаче, возьмет, даст — реализует, наконец, все о чем мечтал. Но обыкновенно партнер, который ему попадается, еще не проделал этого пути (или перевалил — ничего стоющего больше не ожидает).
Особая жизненная понятливость и легкость общения (вопреки раздорам) Сабины и Кастэра объяснялись вероятно однородностью их эмоционального опыта… Добрая воля, рубцы и умная, благородная, щедрая усмешка. Это открылось им мгновенно, после первой фразы, улыбки. И частые взрывы подготовлялись именно этой их требовательной проникновенностью. А теперь все рухнуло. Нелепо: душа отказывается верить. Дурной сон, скучный водевиль.
Сабина звонила почти каждый день. Голос слабый, изнемогающий (внутреннее кровотечение). Порой они сходились в маленьком баре; машина играла бессмысленные до неправдоподобия песни; они сидели до полуночи, Боб честно докладывал о своих передрягах. Потом провожал домой: старого друга. Раз, еще в самом начале влюбленности, она сказала: — Неужели мы когда-нибудь встретимся и будем беседовать просто как знакомые? — и пропела слова романса: «Как странно, мы только знакомы»… От этой неестественной — и потому вероятной — возможности (так и смерть) они оба ощутили острый, вещий, укол в сердце.
Молча расставались, решая, что благороднее вовсе не видаться: зачем выкапывать дорогих покойников, хоронить их, снова выкапывать. (Кстати: если бы мертвые не разлагались, чем бы люди объясняли стремительность, с которой трупы близких предаются земле?).
Но через несколько дней чувство досады исчезало, великодушно претворяясь в другое; боль казалась радостью, и все чепухой, — по сравненью с даром еще раз взглянуть на ее лицо, потрогать руку, услышать добрый смех. «Это серьезно. Это жизнь. За этим конец, старость, прозябание», — шепчет Боб, но слова не исчерпывают всей темы. «Ничто заурядное, ведомое земле, не могло нас отсечь. Понадобилось чудо. Злое чудо. Чудо с обратным знаком, — повторяет он на многие лады. — Тогда Дьявол вмешался. Такое бывает не часто. Как и любовь. И я не дамся. На мою долю это выпало и я принимаю вызов. Даже если не только Вельзевул станет между нами, но и сам Хозяин жизни. Поркин и Прайт, слышите ли вы меня».
Часть пути домой он проделывал пешком; явно чувствовал потребность в свежем воздухе. На углу 53 улицы и Пятого Авеню Боб Кастэр останавливался: у витрины антикварного магазина, между двумя лестницами собвея. Тут, в счастливую полосу, он часто поджидал Сабину: минут пять, десять (иногда больше); случалось, она его уже опережала: бросалась навстречу, тормоша, заливаясь счастливым смехом. Здесь он пережил опыт ожидания. И теперь возвращался по собственным следам, смакуя, осваивая это страшное состояние — ждать, когда нет человека и все-таки в любую минуту может показаться: может воплотиться, сразу, целиком, и все-таки его нет. Постепенно это бесцельное дежурство после рабочего дня, у витрины, стало привычкой; Боб терял чувство времени и начинал, по-настоящему, вслушиваться, всматриваться: вот, вот Сабина каблучками застучит по ступенькам — в сторону Museum of Modern Art. «Опоздала»? — скажет весело и уверенно тряхнет гривкой рассыпающихся волос.
Ему вдруг открылось… Когда встреча назначена в семь, а часы уже подбираются к восьми, то именно этой готовностью, одного, стоять без конца расстраивается свидание: чем больше он ждет, тем решительнее исключает возможность ее прихода.
Внизу подкатывали поезда и пачками выбегали наверх пассажиры. Сперва молодые, здоровые; затем — среднего возраста, обремененные ношей, детьми; последние — старики, калеки… А он все еще ищет, может быть в числе этих уродов Сабина: «Пусть на костылях, пусть горбатая, только бы наконец появилась».
«Вот уже 75 процентов за то, что она сейчас придет. А теперь 80,85». И все же ее не было. И эти 85 % никак не уплотняли ее на столько же частей: могли превратиться в 100, а затем в ничто. Но когда Сабина бывало окликала его, это была она: не сто процентов, а она… и так же трудно рассеять этот образ, как раньше трудно было из процентов вызвать его.
Порою мнилось: Сабина… нежность и тоска его выхлестывалась сразу на приближающуюся фигуру. Но вот разглядел: другая. И Бобу делалось страшно: обманом его всего кинули — пусть на минуту! — к этой чужой женщине. «Значит можно подменить»…
Полицейский прогуливается взад и вперед у витрины ювелирного магазина, быстрым взглядом ощупывает Боба Кастэра: негр, что-то бормочет себе под нос, ждет девочку. Не видя ничего предосудительного, полицейский отходит, однако не переставая за ним издали послеживать.
Янки готовы высадиться в Нормандии, русские великолепным броском покрыли равнину от Волги до Днепра. Освобождают Европу: немцы варят из нее мыло. А Боб Кастэр почему-то ищет Сабину на лестнице собвея, морщится от боли… Но если не будет этого, то незачем спасать мир от Гитлера и обезьян.
Там в застенках пытают: говорят истребили уже двадцать миллионов душ. Рубили, жгли, стреляли, вешали, отравляли газами, насиловали, вываривали жир, сдирали кожу для промышленных целей. А Бобу Кастэру чудится: его душевная боль не легче! Человек приспособлен главным образом к физическим страданиям, в душевном плане он почти дитя: вероятно потому что духовно большинство еще младенцы.
«В мире идет борьба с фашизмом, — недоумевающе шепчет Боб. — Но что такое фашизм? Когда плешивый редактор возвращает поэту стихи, под тем предлогом что он их не понимает, или заставляет сократить их, то это фашизм? Когда певец должен превратиться в чревовещателя, а ученый в рекламного жулика, то это фашизм? Когда мужчина имеет двух любовниц, то это фашизм? Когда жена жмет в театре ногу случайного соседа, это фашизм? Когда супруги целуются не желая того, когда врут, воруют, эксплуатируют, пестуют своих детей, а чужих душат? Когда человеку поручают всю жизнь заботиться о пакетах, что он может успешно выполнить только если сам обернется пакетом? Компромиссы, медленное умирание, обесцвечивание и усыхание души и тела, это похуже фашизма. Для того, чтобы бороться с фашизмом, не надо обязательно летать над Берлином или Токио. Я тоже воюю с фашизмом».