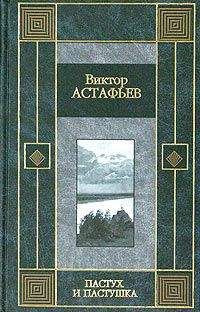Корнея Аркадьевича трясло, постукивали у него зубы, он, вытирая снегом руки, когда вышли из избы, завел:
— Вот чем она страшна! Вот чем! В крови по шею стоит человек, глазом не моргнет…
— Ничего вы не поняли! Зудите, зудите… — Борис чуть было не сказал: врачу, мол, этому труднее, чем тебе, Ланцов. Ты свою боль по ветру пускаешь, и цепляется она репьем за другие души. Но он вспомнил и сказал совсем о другом: — Мохнаков где?
— Умотал куда-то, — пряча глаза, отозвался Шкалик. «Вот еще беда!»-Борис вытер мокрые руки о полы шинели, потащил из кармана рукавицы.
— Идите во вчерашнюю избу, займут ее. Я скоро…
В оврагах, жерласто открытых, сверху похожих на сваленные ветвистые ели, в подмоинах ручья все изрыто, искромсано бомбами и снарядами. В перемешанной глине и снегу валялись убитые кони, люди, оружие, колеса, банки, кружки, фотокарточки, книжки, обрывки газет, листовок, противогазы, очки, шлемы, каски, тряпки, одеяла, котлы и котелки, даже пузатый тульский самовар лежал на боку, иконы с русскими угодниками, подушки в деревенских латаных наволочках-все разорвано, раздавлено, побито все, ровно бы как после светопреставления, — дно оврагов походило на свежую лесосеку, где лес порублен, увезен, остались лишь ломь, пенья, обрубки. Трупы, трупы, забросанные комьями земли, ворохами сена. Многие трупы уже выкорчеваны из сугробов, разуты, раздеты. У совсем уж бедных мертвецов вывернуты карманы, оборванные вместе с цепочками, сдернуты с ниток нательные кресты. Здесь уже попаслись, пострадовали стервятники-мародеры. Вокруг каждого растерзанного до шкуры, до гривы и хвоста разобранного остова мертвого коня густая топонина, отпечатки солдатской обуви, вороньих лап, собачьих или волчьих следов. И всюду, в ухоронке, под навесами оврагов, малые костерки, похожие на черные язвочки. Возле одного костерка на корточках сидел немец, замотанный в тряпки, перед ним на винтовке, воткнутой штыком в снег, котелок с черным конским копытом. Солдат совал под котелок горсточки сухого бурьяна, щепочки, отструг-нутые от приклада винтовки, в надежде сварить еду, хлебнуть горячего — так они вместе и остыли, костерок и солдат, которому даже и упасть некуда было, снег запалил его со всех сторон, сделался белой ему купелью. «Вот сюда бы Гитлера приволочь полюбоваться на это кино».
К убитому немецкому офицеру вел след новых, вовнутрь стоптанных валенок. Борис загреб снегом лицо покойного с разъятой, разорванной пастью, забитой кроваво смерзшейся кроткой, и пьяно побежал вниз по оврагу, уже не останавливаясь возле выкорчеванных трупов.
В глубине оврага, забросанная комьями глины, лежала убитая лошадь. Во чреве ее рылась собака, вжимая хвост в облезлые холки. Рядом прыгала хромая ворона. Собака, по-щенячьи тявкая, бросалась на нее. Ворона отлетала в сторону и ждала, чистя клюв о снег.
Взгляд собаки неведомой породы, почти голотелой, с наборным, вяло болтающимся ошейником, был смутен и дик. Собака дрожала от холода, алчности. Длинными, примороженными, что капустные листья, ушами да дорогим ошейником она еще напоминала пса редких кровей из какого-нибудь благопристойного рейнского замка.
— Пошла! Цыть! Пошла! — затопал Борис и расстегнул кобуру.
Собака отскочила, вжав хвост еще глубже в провалившийся зад, и уже не по-щенячьи затявкала, а раскатисто зарычала, обнажив источенные зубы. Она щерилась, одновременно слизывая сукровицу с редких колючек, обметавших морду, и все дрожала, дрожала обвислой голой кожей, под которой было когда-то барски холеное тело. Ворона, сидя на козырьке оврага, перестала чистить клюв в снегу, воззрясь на человека и собаку, внезапно закаркала призывно, перевозбужденно.
Борис опасливо обошел собаку и, не переставая оглядываться, поспешил в глубь оврага. Ворона, проводив его поворотом головы, спорхнула вниз и смолкла. Борис облегченно снял руку с пистолета.
За ближним поворотом оврага, в вершинке его, поросшей чернобыльником, крапивой, кустарником, сплошь выломанным на топливо, Борис увидел шустро орудующего кузнечными щипцами человека. По горбатой спине, по какой-то пакостной, песьей торопливости он узнал, кто это и что делает. Борис хотел закричать, но сведенные губы зашевелились сперва с шипом, потом, словно пар пробивши, пошел изнутри взводного скулеж, собачий, сдавленный.
Старшина резко обернулся. Лицо его начало бледнеть. Он следил за рукой лейтенанта — не полезет ли тот в кобуру. По Борис не двигался, даже не моргал. Все так же резиново шевелились его обескровленные губы, задергалось горло в пупырышках, зачерненных грязью. Старшина бросил в снег ржавые щипцы, валенком забросал разъятый рот мертвеца.
— Ну что ты, что ты? — подойдя, похлопал он Бориса: — Не боись, тут все свои.
— Не прикасайся ко мне!
— Да не прикасаюсь, не прикасаюсь, — отступил старшина, прикрывая будничностью тона смятение, может, и страх. — Бродишь, понимаешь… Враг кругом… Мины кругом… Может рвануть, а ты бродишь…
Взводный переломился в пояснице и, волоча ноги, почти касаясь руками снега, подошел к стене оврага, лбом привалился к мерзлой, пресно пахнущей земле. Горло его порезанно дергалось, выжимая клейкую слюну. С теменью в глазах стоял он и отходил от оморочи, вытирая рукавом губы. Глянул на небо, стоял какое-то время, ничего не понимая, но различил свет и пошел на него. Все колыхалось перед ним, он упал в воронку, стукнулся о мерзлые комья и от боли очнулся.
Два окоченелых эсэсовца сидели в глубокой бомбовой воронке и в упор смотрели на него судачьими глазами. Лейтенант забился, замычал, срывая ногти, пытался вылезть наверх.
Мохнаков плеснул в рот чего-то горячего и этим горячим словно бы прочно заткнул дыру в мерзло дребезжащем нутре Бориса. Что-то скребло его, отдавалось в ушах — он глядел, не понимая. Старшина ножом очищал шинель на нем.
— Не… не… не…
— Экий ты, ей-богу какой! — старшина с досадой щелкнул трофейным ножом. — Война ведь это война — не кино! Пойми ты! Тут, видал? Голый голого тянет и кричит: «Рубашку не порви!» — принюхавшись по-собачьи, старшина совсем уж обыденно закончил: — Славяне борова палят! Пищу варят, бани топят… Живой о живом… А ты? — он громко высморкался, достал кисет. Кисета у него оказалось два: один красный, из парашютного шелка, другой холщовый, с кисточками, вышитый кривыми буквами. Какие-то далекие и милые девчушки посылали такие кисеты на фронт с трогательными надписями: «Давай закурим!», «На вечную память и верную любовь!», «Любовь моя хранит тебя!»…
Старшина раздернул тесемки на красном кисете, поднес его под нос взводному. В кисете были колечки с примерзшей к ним кожей, золотые зубы, вывернутые вместе с окровенелыми корнями, ладанки, крестики, изящный портсигар.
— Видал? Нюхай вот. И молчи.
Борис словно вывернутой, слабой рукой отводил, отталкивал от себя кисет.
— Нет, ты смотри, смотри, мотай на ус.
— Да не хочу я этого видеть, не хочу! — через продолжительное время, подавленно, но внятно заговорил Борис. — Зачем тебе это?
— А ты будто и не знаешь?
— Догадываюсь. Ребята уже давно заметили неладное. Пафнутьев раньше всех. Да я-то не верил.
— Теперь поверишь! — старшина харкнул в снег. — Курить будешь? И не надо, не учись. Храни здоровье. И честь смолоду. Ох-хо-хо-хо-ооо! Ох-хо-хо-хо-ооо, — вдруг захохотал, завыл, заохал старшина и, упав на землю, начал биться лицом в мерзлые комки: — Ох, война, ох, война, ох, война-а-а, война-а-а, па-адла-а-аааа! Ох, блядь!..
— Мохнаков! Мохнаков! — топтался вокруг него Борис. — Да Мохнаков! Перестань! Ну что ты, ей-богу. Ну перестань! Ну, старшина же…
Когда, из чего, чем развели они огонек, Борис помнил плохо, но тепло почуял. Потянул к нему руки, морщась от кислого бурьянного дыма, приходил в себя. Воткнув на винтовочные шомпола по куску полузамерзшего кислого хлеба, старшина отогревал хлеб, отогревался сам и отдаленно, глухо повествовал:
— Я, паря, землячок мой дорогой, в тятю удался. Он у меня, родимай, все хвалился, что с пятнадцати лет к солдаткам хмель-пиво пить ходил, а я, паря, скромнее был его: только в шестнадцать оскоромился. В семнадцать тятька давай меня женить скорее, а то, говорит, убьют, обормота, мужики, иль бабы от любви задушат. В восемнадцать у меня уж ребенок в зыбке пищал и титьку требовал. В девятнадцать второй появился, да все девки — Зойка, Малашка, я уж парня начал выкраивать да вытачивать, да тут меня — хоп и в армию, и с тех пор я, почитай, дома и не видел. В отпуске после Халхин-Гола был, и все. Правда, парня все-таки успел за отпуск смастерить — мастак я на эти дела, о-ох, мастак! Мне вот юбку на бочонок с селедкой надень или платье на полевую кухню надень и скажи — баба, дай выпить — и полезу, никакой огонь меня не остановит!
Хлебушек совсем раскис, но был горяч, пах дымом, хрустел угольком, тепло расходилось по нутру.
— …Тебе уже двадцатый, — напрягся слухом Борис, — но ты еще и не знаешь, куда она комлем лежит. Немцам вон и бордели, и отпуска… а у нас потаскушку свалишь — и праздник тебе.