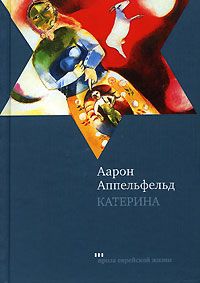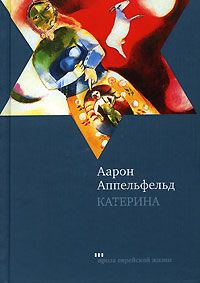Я тоже была без работы в то время. Деньги, что дала мне Генни, я тратила, не считая. С утра я слонялась по улицам. В городе — масса евреев. Часами я сижу и наблюдаю за ними.
В обед я захожу в еврейский ресторанчик. Мое появление на миг поражает всех присутствующих. Но когда я прошу — разумеется, на языке идиш — куриный суп с клецками, глаза раскрываются еще шире. Но меня это не смущает. Я усаживаюсь, обедаю и разглядываю. У еврейских блюд неземной вкус, нет в них излишка уксуса или черного перца.
К вечеру я возвращаюсь в кабак и занимаю свое место рядом с Сами. Пока он пьет, никто не делает ему ничего плохого, но когда он пьянеет, его поносят, обзывают «пьяным жидом». Сами — мужик крепкий, даже напившись, он умеет постоять за себя, но с хозяином, хозяйским сыном и зятем ему не справиться. В полночь они хватают его и выбрасывают на улицу.
— Никогда сюда не вернусь! — кричит Сами. Но на следующий день он снова здесь.
— Ты должен пересилить себя, — пытаюсь я уговорить его.
— Я должен переселить себя, — соглашается со мной Сами. Я-то хорошо знаю, что он себя не пересилит, это невозможно, и все-таки досаждаю ему своими напрасными требованиями.
— А ты? Что будет с тобой?
— Я — из русинов, дочь русинов. Кровь поколений пьяниц течет в моих жилах.
— А я легко пьянею, — признается он.
День принадлежит мне целиком. Я брожу между лавок, заглядываю во дворы, в синагоги. А обедаю в еврейском ресторанчике. Идиш — сочный язык. Я готова сидеть часами, вслушиваясь в его музыку. В устах пожилых людей звучание идиша вызывает у меня воспоминания о прелести тех блюд, что принято есть зимой. Я готова подолгу сидеть, наблюдая за жестами и мимикой стариков. Иногда они видятся мне священнослужителями, что отказались от положенных им почестей, но порой вскинет один из стариков голову, пронзит взглядом какого-либо наглеца — и ясно виден тогда в этом взгляде огонь, горевший некогда в глазах первосвященников. Я люблю стоять у окна синагоги, слушая молитвы в еврейский Новый год. Говорят, что молитвы у евреев плаксивые. Но я не слышу в них плача. Наоборот, мне слышится в этих молитвах ропот людей сильных, твердо стоящих на своем.
Так я бродила, бездельничала, погрузившись в забытье, окруженная множеством пестрых видений. Но однажды я увидела в газете большое объявление: «Известная пианистка Генни Трауэр безвременно скончалась в курортном городе Кимполонг. Похороны состоятся завтра утром в десять». Я прочла это, и в глазах у меня потемнело. Я бросилась на вокзал, чтобы успеть на скорый. Время было позднее, и вокзал опустел, разве что по углам валялись пьяные, оглашая зал криками.
— Могу ли я сегодня вечером добраться до Кимполонга? — прокричала я в отчаянии.
Кассир приоткрыл свое окошечко и спросил:
— Что случилось?
— Мне необходимо добраться до Кимполонга, — выпалила я.
— В такое время нет поездов, уходящих в провинцию. Время — к полуночи, к вашему сведению.
— И товарные составы не ходят? Мне безразлично. Я готова ехать на любых условиях и за любую цену.
— Товарные вагоны предназначены для скота, а не для людей. Окошечки касс закрывались одно за другим, гасли огни, даже пьяницы утихомирились и забылись сном.
— Боже, пошли мне поезд с неба, — взмолилась я. И стоило мне лишь произнести эти слова, как подошел товарный состав и остановился рядом со мной.
— Смогу ли я добраться с вами до Кимполонга? — громко спросила я машиниста.
— Ты согласна ехать со мной в кабине паровоза?
— Согласна!
— Поднимайся, — сказал он и спустил мне лесенку.
— Мне очень важно добраться поскорее до Кимполонга.
— Доберешься, — пообещал машинист.
Я знала, что расплатиться за эту поездку мне придется собственным телом, но никакая цена не казалась мне чрезмерной. Я стояла в тесной кабине паровоза, хорошо представляя, что ждет меня.
— Почему ты дрожишь?
Я рассказала ему, что женщина, которую я любила больше родной сестры, неожиданно умерла, и я хочу с ней проститься.
— Все помрем.
Мои слова не произвели на него никакого впечатления.
— Верно. Но в одно и то же время есть те, кто уже вышел навстречу своей судьбе, и те, кто остается на этой земле.
— В этом нет ничего нового.
— Трудно вынести расставание, — я пыталась разжалобить его.
Но он твердил:
— На том стоит этот мир.
Я не нашлась с ответом, и замолчала. Продолжая управляться со своей мощной машиной, он стал расспрашивать меня о моем родном селе. Я отвечала ему очень подробно. Не испытывала страха. Я готова была на все, лишь бы в срок добраться до Кимполонга.
Между делом он облапил меня, сказал с неудовольствием:
— Евреи тебя испортили. Нельзя у них работать.
— Почему?
— Они наводят порчу.
Из самого сердца рвались слова:
— Евреи — они ведь такие же люди! — но я промолчала.
Он снова занялся своим паровозом, потом долго беседовал с путевым обходчиком, и наконец, попросил, чтобы было объявлено по всем станциям, что состав задерживается и прибудет с опозданием.
Я вновь убедилась: ночь на вокзале — это особая ночь, звуки замерли, однако это — не безмолвие, а застывшая суматоха. С тех пор, как я оставила родной дом, знакомы мне Богом забытые места, подобные этому…
Наконец состав тронулся, машинист продолжал говорить о евреях, о той порче, что они наводят и о необходимости извести их под корень.
— Но среди них есть и хорошие! — я не смогла удержаться.
— Нет! — бросил он единственное слово, перекрывая стоящий в кабине шум, и больше ничего не добавил.
После этого он уже ко мне не прикасался и как бы невзначай заметил:
— Слишком долго ты работала у евреев. Нельзя работать у евреев. Они отравляют и тело, и душу.
Полоска рассвета появилась на горизонте, и мне вдруг стало отчетливо ясно, что все во мне умерло. Это открытие потрясло меня. Я заплакала. Машинист был занят своими делами и не заметил моих слез.
Под утро прибыли мы в Кимполонг.
Страх, что машинист потащит меня на постоялый двор, оказался напрасным. Он сказал мне — не без презрения — лишь два слова: «Ты свободна».
Я вспомнила, что именно так выгонял пожилую служанку хозяин корчмы в Страсове.
Утренний свет уже заливал пустой перрон. Со всех ног бросилась я в привокзальный буфет.
Кофе был густым и горячим, я вся отдалась наслаждению и на краткий миг забыла, что привело меня сюда. Долго сидела я, и перед глазами проплывали картины моего детства. Отец и мать виделись на этот раз совсем нечетко, словно они никогда и не существовали. И лишь подойдя к кассе, чтобы расплатиться, я вспомнила эту долгую ночь и свое путешествие, и меня снова пробрала дрожь.
Похороны Генни были мрачными и суматошными, как и все еврейские похороны. Люди суетились у ворот кладбища, слова их были полны растерянности и испуга. Я стояла в стороне. И наблюдая эту странную суету, чувствовала, как сгущается внутри меня боль.
Высокий, выглядящий весьма энергичным, мужчина рассказывал с вызывающими раздражение подробностями, как, получив ночью известие о смерти Генни, умудрился он вместе с двумя приятелями нанять автомобиль и прибыть сюда. В другом углу антрепренер Генни распространялся о сложностях концертного сезона, о тех неустойках, которые ему придется выплатить владельцам концертных залов, распродавших билеты заранее.
Собралось около десяти человек, и теперь все ждали, когда появится мать Генни, понесшая столь тяжелую утрату.
— Где здесь можно раздобыть чашку кофе? Без кофе я пропал! — кричал человек с большим шелковым галстуком, одетый в экзотического вида пальто.
— Здесь — только могилы, — ответил ему, отчеканивая слова, кто-то из присутствующих.
— Генни мне простит. Она поймет. Ведь и она не могла жить без кофе.
— Похороны начнутся в десять.
— Еврейские похороны никогда не начинаются вовремя. Неподалеку есть буфет. Не присоединитесь ли ко мне?
— Благодарю. Я подожду вас здесь.
— Я мигом слетаю.
Я здесь никого не знала. В последний год в доме бывало очень мало людей.
… На устах у Генни была одна фраза:
— Если это твое внутреннее убеждение, если именно так подсказывает тебе сердце — мне ли стоять поперек твоей дороги?
Эту фразу она повторяла раз за разом. Произнеся ее, она замолкала. А затем все повторялось. В ту субботу Изьо не вернулся домой, и Генни поняла, что свершившегося уже не исправить. Она рухнула на пол, забилась в рыданиях. Я почему-то стала ее уверять, что нельзя так убиваться по человеку, который еще не умер…
Теперь всему наступил конец.
Несколько евреев в традиционной одежде, потертой и заношенной, носились между могилами и конторой кладбища. Время от времени один из них, пробегая, просил пожертвовать сколько-нибудь…. Кто-то из присутствующих, человек явно не религиозный, сказал: