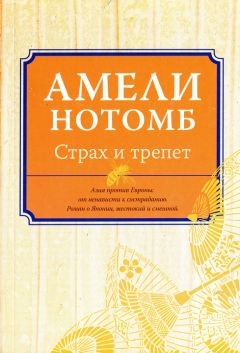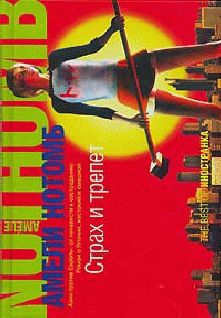Может быть потому, что я была тогда очень юной, фильм Осимы очень взволновал меня, особенно волнующие сцены очных ставок между двумя героями. В конце японец выносит англичанину смертный приговор.
Самой потрясающей сценой в фильме была концовка, когда японец приходит посмотреть на свою полумёртвую жертву. Тело заключённого было закопано в землю так, что на поверхности оставалась только голова, выставленная на солнце. Столь изощрённая казнь умерщвляла пленника тремя способами: голодом, жаждой и жарой.
Это было хитро придумано, тем более, что цвет кожи англичанина был очень чувствителен к загару. И когда гордый и непреклонный военачальник приходил, чтобы предаться самосозерцанию над предметом своих «парадоксальных отношений», лицо умирающего имело черноватый цвет подгорелого ростбифа. Мне было шестнадцать лет, и такая смерть казалась мне прекрасным доказательством любви.
Я не могла не увидеть сходства между этой историей и моими злоключениями в компании Юмимото. Конечно, меня мучили по-другому. Но я всё-таки была пленницей в японском лагере, а красота моей мучительницы была подобна красоте Рюити Сакамото.
Однажды, когда она мыла руки, я спросила её, видела ли она этот фильм. Она кивнула. Должно быть, в этот день у меня был прилив смелости, потому что я продолжила:
— Вам понравилось?
— Музыка хорошая. Жаль, что история лживая.
(Сама того не зная, Фубуки была сторонницей умеренного ревизионизма, как и многие молодые люди сейчас в стране Восходящего Солнца. Её соотечественникам не в чём было себя упрекнуть во время последней войны, а их вторжения в Азию имели целью защитить бедняков от нацистов. Мне не хотелось с ней спорить.)
Я только заметила:
— Думаю, здесь есть метафора.
— Какая?
— Метафора отношений. Например, между вами и мной.
Она озадаченно посмотрела на меня, словно спрашивая себя, что там ещё выдумала эта умственно-отсталая.
— Да, — продолжала я, — между вами и мной та же разница, что и между Рюити Сакамото и Дэвидом Боуи. Восток и Запад. За внешним конфликтом то же взаимное любопытство, то же недопонимание, скрывающее искреннее желание найти общий язык.
Несмотря на мои старания подбирать наиболее нейтральные сравнения, я чувствовала, что зашла слишком далеко.
— Нет, — сдержанно ответила моя начальница.
— Почему?
Что она возразит? Выбор был большой: «Я не испытываю к вам никакого любопытства», или «у меня нет никакого желания найти с вами общий язык», или «какая наглость сравнивать своё положение с участью военнопленного!», или «между этими двумя персонажами были неоднозначные отношения, а такого я ни в коем случае не приму на свой счёт».
Но нет. Фубуки была слишком хитра. Бесстрастным вежливым голосом она дала потрясающий по своей учтивости ответ:
— Вы не похожи на Дэвида Боуи.
Приходилось признать её правоту.
Я очень редко пускалась в разговоры на своём новом посту. Это не было запрещено, но неписаное правило удерживало меня от этого. Странно, но когда занимаешься столь малопривлекательным делом, сохранить достоинство можно только молча.
В самом деле, если мойщица унитазов болтлива, можно подумать, что ей нравится её работа, что здесь она на своём месте, и что эта должность придаёт ей весёлый вид и заставляет без умолку щебетать.
Если же она молчит, это значит, что её работа для неё то же самое, что умерщвление плоти для монаха. Незаметная в своей немоте, она несёт свой крест во искупление грехов человечества. Бернанос13 говорит об удручающей банальности зла; мойщице унитазов знакома удручающая банальность испражнений, всегда одинаковых, несмотря на их отвратительные диспропорции.
Её молчание говорит о подавленности. Она кармелитка отхожих мест.
Таким образом, я молчала и размышляла. Например, несмотря на несходство с Дэвидом Боуи, я считала своё сравнение уместным. Наши истории были похожи. Фубуки не могла бы обречь меня на столь грязную работу, если бы совсем ничего не чувствовала ко мне.
У неё были другие подчинённые. Я была не единственной, кого она ненавидела и презирала. Она могла мучить и других. Однако, она упражнялась в своей жестокости только на мне. Должно быть, в этом была привилегия.
Я сочла себя избранной.
Эти страницы могут внушить мысль, что у меня не было другой жизни вне стен Юмимото. Это не так. Моя жизнь вне компании была очень насыщенной.
Однако, я решила не рассказывать здесь о ней. Прежде всего, потому что речь не об этом. И потом, учитывая количество моих рабочих часов, времени на эту личную жизнь оставалось мало.
Но самым странным было то, что когда я на своём посту в туалетах 44 этажа чистила за кем-нибудь унитаз, мне было трудно представить, что где-то там, вне этого здания, через 11 остановок метро, было место, где меня любили, уважали и не видели никакой связи между мной и щёткой для унитазов.
Когда во время работы я вспоминала о своей ночной жизни, мне хотелось сказать: «Нет. Ты выдумала этот дом и этих людей. Если ты думаешь, что они существовали до того, как тебя сюда назначили, ты ошибаешься. Открой глаза: что значит плоть человеческая в сравнении с вечностью фаянсовой сантехники? Вспомни фотографии разбомблённых городов: люди мертвы, дома скошены, но унитазы гордо возвышаются к небу, рассевшись на насестах водопроводных труб в состоянии эрекции. Когда наступит апокалипсис, города превратятся в сплошные леса из унитазов. Тихая комната, где ты проводишь ночь, люди, которых ты любишь, все это успокоительные иллюзии. Существам, выполняющим столь жалкую работу, по мнению Ницше, свойственно создавать себе иллюзорный мир, земной или небесный рай, в который они пытаются верить, чтобы найти утешение в своих зловонных условиях. Их воображаемый эдем настолько прекрасен, насколько гнусна их работёнка. Поверь мне: кроме уборных на 44 этаже ничего больше не существует. Все только здесь и сейчас».
Тогда я подходила к окну, пробегала глазами одиннадцать станций метро и смотрела в конец пути. Там невозможно было ни разглядеть, ни вообразить себе никакого жилища. «Ты прекрасно видишь: эта тихая обитель — плод твоего воображения».
Мне оставалось только прислониться лбом к стеклу и выброситься из окна. Я единственный человек, с которым произошло такое чудо. Падение из окна спасло мне жизнь.
Должно быть, и по сей день по городу разбросаны мои останки.
Прошли месяцы. С каждым днём время теряло смысл. Я уже не чувствовала его бег. Моя память стала похожа на рычаг для спуска воды. Вечером я его нажимала. Воображаемая щётка убирала остатки нечистот.
Некое ритуальное очищение, тщетное, потому что каждое утро унитаз моего мозга вновь обретал ту грязь, с которой расстался вечером.
Большинство смертных верно подметило, что туалеты — благоприятное место для медитации. Для меня, ставшей туалетной кармелиткой, представился случай для размышлений. И я поняла там одну важную вещь: жизнь в Японии — это работа.
Конечно, эта истина была уже неоднократно описана в экономических трактатах, посвящённых этой стране. Но одно дело прочесть, другое дело — прожить. Я проверила на себе, что это значило для служащих компании Юмимото и для меня самой.
Моя участь была не хуже остальных. Просто она была более унизительной. Но этого было не достаточно, чтобы я завидовала другим. Их жизнь была так же ничтожна, как и моя.
Бухгалтера, проводящие по десять часов в день за переписываем цифр, были в моих глазах жертвами, положенными на алтарь божества, лишённого всякого величия и таинственности. На протяжении вечности покорные рабы посвящали свою жизнь действительности, обгонявшей их: раньше, по крайней мере, они думали, что в этом есть нечто мистическое. Теперь же они не могли больше себя обманывать. Они зря проживали свою жизнь.
Япония — страна, в которой самый высокий процент самоубийств. Я лично удивляюсь тому, что самоубийства не происходят там ещё чаще.
Что ожидало бухгалтера с мозгом, иссушенным цифрами, вне стен предприятия? Обязательная кружка пива в компании таких же измученных, как и он сам, коллег, часы в переполненном метро, уже заснувшая супруга, усталые дети, сон, засасывающий подобно водовороту, редкий отпуск, с которым никто не знает, что делать: во всём этом нет ничего, что заслуживает название жизни.
Самое большое заблуждение — считать этих людей привилегированными по отношению к другим нациям.
Наступил декабрь, месяц моего увольнения. Это слово могло бы удивить: мой контракт заканчивался, а значит, речь об увольнении не шла. И всё-таки это было так. Я не могла дождаться вечера 7 января 1991 и уйти, ограничившись несколькими рукопожатиями. В стране, где до недавнего времени, по контракту или нет, нанимались на работу навсегда, невозможно было покинуть рабочее место, не исполнив при этом всех формальностей.
Чтобы соблюсти традиции я должна была заявить о моём уходе на каждой ступени иерархической структуры, то есть четыре раза, начиная с подножия пирамиды: сначала Фубуки, затем господин Саито, потом господин Омоти и, наконец, господин Ханеда.