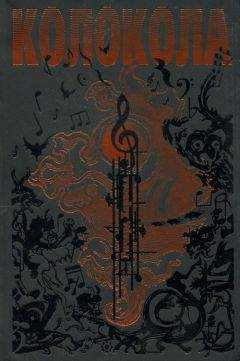Ульрих рассказал мальчикам то немногое, что знал обо мне: что родом я был из глухой горной деревни; что обладал невероятным, но непоставленным голосом, который однажды может стать самым великолепным из тех, что когда-либо звучали в их хоре. Он сказал это так, будто я был бутылкой отличного вина, которую следует отправить на хранение в погреба аббата.
— Отныне он брат ваш, — сказал им Ульрих, — покуда и он, и вы пребываете в этом хоре. Помогите ему понять этот мир, столь ему незнакомый.
Мальчики кивнули в ответ своему господину. Я смотрел на этого человека, поначалу показавшегося мне таким отталкивающим, и не мог не испытывать к нему благодарности. Никогда я не был так счастлив с тех пор, как потерял свою мать.
Затем Ульрих поручил мальчику по имени Федер отвести всех на репетицию. Он слегка подтолкнул меня в сторону мальчиков и вышел из комнаты. Мальчики столпились вокруг нас с Федером.
— Привет, — сказал он мне.
Федер был, наверное, моего возраста, только выше ростом. Он улыбнулся мне.
Я кивнул и улыбнулся в ответ — самой дружеской, самой искренней улыбкой, какую только знал мир. Я хотел сказать что-нибудь, но язык мне не подчинился.
Я слишком боялся, что могу произнести какую-нибудь глупость перед моими друзьями.
Федер подошел ко мне, все еще улыбаясь, и встал, нависнув надо мной. Я едва доставал ему до плеча. Потом его улыбка пропала, так внезапно, что я даже отпрянул от испуга. Стоявшие за его спиной мальчики засмеялись.
— Можешь петь с нами, если умеешь, — сказал он. Глаза у него были холодными, как и голос. — Но ты не один из нас.
Он пристально посмотрел на меня сверху вниз, как будто искал подтверждения тому, что я все понял и не разочарую его. Слезы навернулись мне на глаза Я старался не моргать, но не выдержал, моргнул, и две капли покатились по моим щекам. Мальчики засмеялись и закричали ему, чтобы он мне наподдал, но он не стал этого делать. А когда слезы мои потекли рекой, он понюхал воздух и сказал:
— В твоей семье все воняют козлом?
Таким образом, недолгая мечта о друзьях одного со мной возраста оставила меня при самом своем зачатии. Я не пожаловался Николаю или кому-либо еще, поскольку, будучи сиротой, чего еще я мог ожидать? Днем я пошел за стайкой мальчиков в трапезную. Взял в одну руку тарелку с едой, а в другую — самое громадное, самое красное яблоко из всех, которые мне доводилось видеть. А потом за моей спиной возник Федер, ущипнул меня за руку и повел к стулу, развернутому к стене.
— Это твое место, — прошептал он мне на ухо. — А эта еда — мой подарок тебе. Подарок от меня. Видишь того крестьянина, который стоит на раздаче, — его кузен работает в нашем поместье. — Потом Федер показал на голую стену: — Смотри на эту стену. Если посмеешь повернуться и взглянуть на нас, я заберу у тебя свой подарок. И если скажешь хоть слово моим друзьям, я выполню свое обещание. Тебе понятно? — Он ущипнул меня за руку так сильно, что я чуть не выронил тарелку. — А это, — добавил он, забирая из моей руки яблоко, — таким, как ты, не полагается.
Моя постель была теплой и мягкой, как объятия моей матери, и я заснул бы на ней самым глубоким сном, если бы только мне это было позволено. Еще пятеро мальчиков жили со мной в комнате, и, хотя среди них Федера не было, приказы его передавались и сюда.
— Что это ты делаешь? — спросил толстый Томас, обнаружив меня лежащим на кровати в ту первую ночь. — Собаки спят на полу. — И пнул меня по ноге, а потом еще раз, пониже спины, когда я выкарабкался из кровати.
Никто не возражал, когда я вытянул руку и стащил вниз одеяло. Я свернулся под кроватью и заснул под веселые рассказы мальчиков о вонючих охотничьих собаках.
На следующий день в репетиционную комнату ворвался Николай, принесший для меня новую одежду и обувь. Я покраснел, а мальчики захихикали, когда он раздел меня в коридоре догола. Но, по крайней мере, как мне показалось, я стал выглядеть так же, как они. Однако очень скоро я понял, что были еще и другие признаки их превосходства, почти невидимые глазу. Эти сыновья чиновников, мастеров-ткачей или наследники богатых фермеров с обширными земельными угодьями имели отцов, дядьев и кузенов с такими именами, услышав которые многие облизывались. Родители держали их в хоре по нескольку лет в надежде на то, что частые встречи с Богом и определенное количество золота подготовят их к предназначенной им судьбе — стать поместным дворянством. Поэтому они были вынуждены постоянно и с большими трудами карабкаться по лестнице, на самую нижнюю ступеньку которой мне удалось взобраться. Прозвище свинья, данное мне Бальтазаром, заменило прозвище собака, придуманное Томасом. Надменный Герхард, притворяясь, что не замечает меня, наступал каблуком мне на ногу, когда проходил мимо. Иоханнес, блондин с лицом ангела, однажды увидел, как я любуюсь четками, которые подарил мне Николай. Он позвал остальных и, когда все собрались вокруг нас, выхватил четки у меня из рук, разорвал шнурок и разбросал бусины по всему проходу. Губерт, костлявый мальчик с желтой кожей и запавшими глазами, который не мог петь, но, как говорили, был самым богатым из них, обладал способностью очень злобно насмехаться над всеми. «Смотрите, это игрушка того здоровенного монаха, — сказал он как-то вечером, когда я вошел в переполненную комнату. И потом, обратясь ко мне: — Я уверен, что тебе больше нравилось спать в его комнате». Я покраснел, хотя в то время смысл сказанного был мне еще непонятен. Дошло до того, что я стал бояться подходить к Николаю, когда мальчики были поблизости. «Почему он все время тебе улыбается? — бывало, спрашивал меня Федер с этаким невинным видом. — Наверное, сегодня ночью, глубокой ночью, ты пойдешь к нему в комнату навестить его».
Когда же стал я получать удовольствие от пения, Федер прошептал мальчикам: «Смотрите, так он, оказывается, хочет быть певцом! Конечно же! Что еще остается таким, как он?» Он повернулся ко мне: «Так кто, ты говоришь, были твои родители? Они свиней держали?» Первый раз в жизни мне стало стыдно за свою мать. Я знал, что даже свинопас презирал бы ее. Я боялся, что Федеру каким-то образом удалось узнать больше, чем он говорил. На такие мысли наводила меня его жестокая улыбка Он подошел ко мне и, хоть я и попятился от него, обхватил меня рукой за шею и с каждым словом все крепче ее сдавливал. «Не беспокойся, мальчик! — проворчал он. — Через пять лет, когда твой прелестный голос погрубеет, а мерзкий монах не захочет больше забавляться с тобой, найдется достаточно свиней, которых нужно пасти».
Мы поднимались в шесть часов утра, много позже монахов. После завтрака до начала торжественной мессы мы репетировали, потом учились произносить тексты на латинском языке, практиковались в письме — и в этих занятиях проводили время до второго завтрака. После дневного отдыха Ульрих усаживал нас на пол вокруг клавесина и раздавал нам листы бумаги и огрызки карандашей. Потом он начинал бить по клавишам, и мальчики тупо смотрели на него. Он объяснял, чем отличается гипофригийский лад от ионического[14], или расхаживал взад-вперед по комнате, понося Тридентский собор. Почти каждый день он сначала ударял по клавишам вытянутым пальцем. «Это все монахи, — говорил он. — Тысячу лет одно и то же: пение хроматическое, монофоническое в основном, иногда с налетом бравады, привносимым по ошибке гениями». Потом брал несколько аккордов. «Сейчас все по-другому. Вот что вы должны знать — полифонию. Звучание басов, контрасты. Даже если вы не научитесь слышать это здесь, — стучал он себе по голове, — а большинство из вас этому никогда не научится, — вы должны хотя бы понимать это, или вы так и останетесь безмозглыми инструментами, такими же глупыми, как этот клавесин». Затем он обычно играл что-нибудь из Вивальди и велел нам записать это нотами, что очень скоро я стал делать с такой легкостью, с какой остальные дети рисуют дом с двумя окошками и крылечком. Другие мальчики обычно заглядывали мне через плечо и копировали то, что написал я. Когда терпение Ульриха иссякало, он отпускал нас до начала репетиции с взрослыми певчими и музыкальным аккомпанементом, которая продолжалась до самого ужина. Все эти годы с нами не занимались ни математикой, ни французским, и то, что я знаю о Библии и Боге, я выучил, стоя на ежедневных проповедях.
В первые шесть месяцев после того, как я был принят в хор, все мои дни, с утра до вечера, принадлежали Ульриху, но, по крайней мере, с ужина до завтрака он оставлял меня в покое. Однако, по мере того как я овладевал своим голосом, он становился все более исступленным в своей заботе обо мне. Когда мы выстраивались перед репетиционными зеркалами, его отражение появлялось только в моем зеркале: он стоял у меня за спиной с закрытыми глазами, как будто пытаясь уловить запах моих волос. И очень скоро едва ли не каждый вечер не проходил без того, чтобы не возникал он у выхода из трапезной. Положив мне на плечо крепкую руку, он обычно говорил: «Мозес, есть еще кое-что, что я хотел бы тебе показать» — и затем вел меня в репетиционную комнату, и рука его никогда не отпускала моего плеча. Мне было противно оставаться с ним наедине — из-за вони, шедшей от него, из-за его холодного голоса и отсутствия каких-либо звуков, издаваемых его телом. Иногда я думал, что предпочел бы проводить время рядом с трупом, потому что мертвец уж точно не будет прикасаться ко мне.